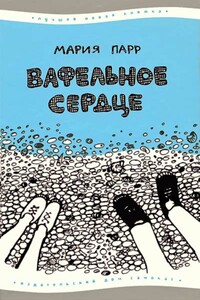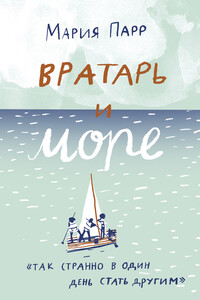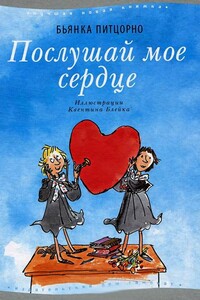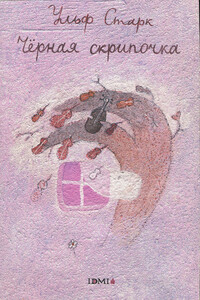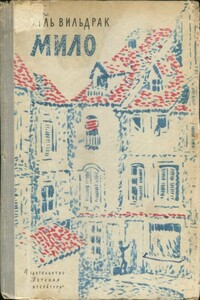Пусть танцуют белые медведи | страница 33
Лолло все время околачивалась поблизости. Я психовал, потому что спиной чувствовал на себе взгляд ее зеленющих глаз. Она не пропускала ни одного моего идиотского ответа. Стоило мне промямлить хоть слово, как тут же раздавалось ее фырканье.
Я вообще ничегошеньки не знал.
Ну и пусть: нечего ей надо мной смеяться!
— Неужели ты надеешься хоть что-то ему втемяшить? — не выдержала Лолло. — Да он же полный придурок! Вообще ни бум-бум!
Меня эта ее фразочка так взбесила, что я из последних сил напряг мозги. Но и это не помогло. Чем больше я старался, тем большим идиотом себя чувствовал. Когда я пытался читать, буквы и цифры пускались в пляс по бумаге. Я выпучивал глаза, чтобы заставить их стоять на месте.
— В чем дело? — спросил Торстенсон.
— Ни в чем, просто у меня глаза такие.
Тогда-то он и смекнул, что у меня слабое зрение, и потащил меня к окулисту. Там мне всеми возможными способами проверяли глаза.
Когда мы вернулись, Лолло уже и след простыл.
Она укатила к своей маме до конца рождественских каникул. Я заявил Торстенсону, что не стану корпеть над книжками и отвечать на его вопросы, если эта девчонка будет торчать в той же комнате. Он меня понял. И прямо все ей выложил. Тогда она живенько собрала свои вещички и умотала к мамуле.
А мы с Торстенсоном оставались вдвоем, пока мама была на работе. Постепенно я привык к тому, что он то и дело хлопал меня по спине, привык заниматься за журнальным столом и вообще к моему новому дому. Я здорово умею привыкать ко всему. И все это время я старался не думать о том, о чем мне думать не хотелось.
— Ну вот, теперь осталось только немного подшлифовать.
— А-а-у-у, — захныкал я.
— Тебе надо научиться точно выражать свои мысли, — наставил меня Торстенсон. — Язык — это самое главное.
Он говорил, как наша школьная библиотекарша, она заявлялась в класс с кипами книг, которые невозможно было читать, и пускалась в разглагольствования о языке, и, похоже, всерьез считала, что мы не в состоянии говорить по-шведски.
— О-о-йе! — запротестовал я.
Торстенсон деловито склонился надо мной. Он был весь в зеленом. Утреннее солнце проникало сквозь тонкие белые хлопковые занавески, которые мама нагладила, и отражалось в стеклянном шкафчике с орудиями пытки. Я с открытым ртом сидел в кресле, а на груди у меня болталась дурацкая бумажная салфетка. В углу рта свешивалась слюноотводная трубка, она то и дело присасывалась к щеке.
— Конечно, нам еще придется поработать, — сказал Торстенсон. — Но все будет хорошо. За последние дни ты здорово подтянулся.