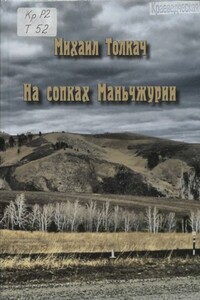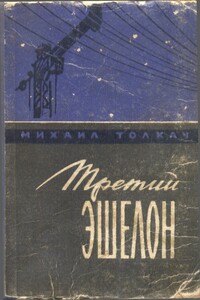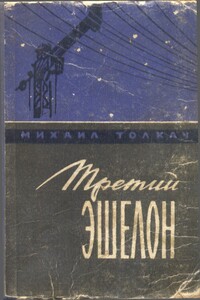Третий эшелон | страница 54
Не дождавшись ответа, предложил:
— Скидывай телогрейки, ребята! Граммов по триста корочки не найдется с мякушкой? А, отец?
— Это черт знает что такое, прости меня грешного! — возмутился пекарь, убирая со скамейки черные продолговатые формы. — Грабители вы окаянные…
Над станцией занималось утро, бодрое, румяное. Рассеивалась сизая дымка. За оградой пекарни открывалось увалистое поле, ряды колючей проволоки на колышках, противотанковые ежи.
Заалело полнеба. Голосили одинокие петухи в каменном буреломе. Утробно ревел гудок.
— Продолжай, дядька, — просил Пилипенко, выслушивая рассказ пекаря и отрезая новый кусок душистого хлеба.
— Так вот я и говорю, — охотно отозвался пекарь, — пришли недавно наши. Один полковник и заявляет: «Хлеба давай, старина. Немца мы шугнем в два счета. Что же это у вас все драпака дали?..» И так это выругался, что даже мне легко на сердце стало. А вправду, начальство поуехало, больше мелкие командиры вертятся, отбиваются да эвакуацию-ма-тушку учиняют… Ну, и солдаты, безусловно, тут как тут. Без солдата ни одно дело не обойдется… Да, полковник хлеба просит, а во двор, вона туда, машина въехала, и покатая крыша на ней под брезентом топорщится. За полковником и другие командиры сгрудились. Дал я им хлеба. И полковник ломоть жует да все удивляется: мол, почему я не убежал до сих пор? Только-то они отъехали, слышу, ка-а-ак шарахнет! Немца, значит, погнали! Да. Потом меня в главный штаб потребовали… Мне за тот хлебушек награду прицепили.
Пекарь снял фартук. На замасленной гимнастерке поблескивала медаль «За боевые заслуги».
— Потому, говорят, как ты, Феофан Карпыч, верно служишь армии и флоту.
Пилипенко пощупал медаль, серьезно попросил:
— Извините нас, пожалуйста, Феофан Карпыч, за нахальство наше.
— Хо-хо-хо! Нахальство… — Пламя маленькой коптилки заколыхалось от басовитого хохота пекаря. — Какое там к шуту нахальство, ежели народ хлеба ждет. Не для себя же… Смелый там найдет, где робкий потеряет, чада мои… Ну, расселись!. Пора честь знать. Живо!
Шофер и Цыремпил носили горячие буханки хлеба. Пилипенко перегибался через борт, принимал хлеб, укладывал его на брезент. Над машиной курился легкий пар.
Послышался далекий звук самолета. Высоко в небе, серебристо-голубом и чистом, заструилась белая тесьма. Она медленно удлинялась, будто разматывалась с невидимого клубка. Ударили зенитки.
— Фриц, — определил пекарь.
Ребята переглянулись, замерли в нерешительности.