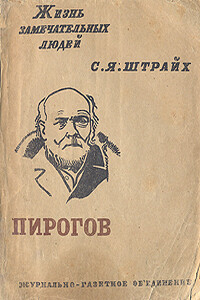Рублев | страница 42
Живописец жил, искал, творил почти шестьсот лет назад.
Представления о справедливости, о нравственном долге, о способах достижения великой цели — всеобщего блаженства — он мог составить, лишь исходя из опыта прежних поколений.
А этот печальный опыт учил, что мир непознаваем, что горькая судьба людей — следствие первородного греха, что высший долг человека и высшая мудрость его — терпение.
Средневековое общество Руси не в состоянии было еще искать начала и концы человеческих невзгод в условиях собственного существования.
Оно ищет эти начала и концы в несовершенстве личности и верит, что исправить мир можно одним лишь духовным приобщением каждого к «истинному» учению.
Но в таком случае, если быть последовательным и искренним, надо не только провозглашать эти истины, но и следовать им на деле!
Вот почему для некоторых русских людей XIV и XV веков «уход от мира» — это прежде всего подвиг во имя человека, сознательное отречение от житейских благ с тем, чтобы проповедью «любви», подкрепленной силой личного примера, «исправить» людской род, избавить его от грядущих бед, «очистить» от пороков.
Все творчество Андрея Рублева, исполненное любви к людям, свидетельствует, что он воспринимал монашество именно как «служение человеку».
Так должен был он пожертвовать и первой любовью своей.
Смешно осуждать это. Можно лишь взволнованно думать о погибшем чувстве, о чьей-то горькой судьбе, о чьих-то нам неведомых слезах и лишь гадать, в лике какой из жен икон и росписей своих сохранил художник неповторимые черты той, что стала когда-то источником его вечной радости и муки.
И вот восторженный, глубоко и искренне верующий, готовый во имя веры подавить самое яркое влечение, сталкивается он лицом к лицу с «прозой» жизни, воплощаемой в Никоне.
Игумен Святой Троицы хочет строить благополучие церкви на труде и поте меньших братьев — крестьян, заводит холопов.
Это волнует часть братии. И неминуемо вызывает смятение, негодующий взрыв в душах Андрея и Даниила. В их глазах Никон — отступник, нарушитель заповедей Сергия, учившего, что есть можно лишь тот кусок хлеба, что заработан самим тобою.
Летописи и жития промолчали о том, что происходит в ту пору между игуменом и двумя живописцами. Лишь глухой отзвук какой-то крепкой ссоры слышится в рассказе об истории росписи Троицкого собора. Но уже можно представить, что и как происходило.
Воспользовавшись приглашением настоятеля московского Спасо-Андрониковского монастыря украсить новый храм, Даниил и Андрей уходят из Святой Троицы. Видимо, их ждут обратно. Но проходят все сроки, а мастера не возвращаются.