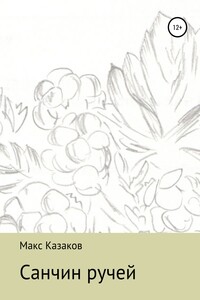Семь месяцев саксофона | страница 21
В раскрытую дверь проходной виден кусочек двора и три скамейки. Достаю карандаш.
На траве, прижавшись спиной к дереву, сидит г-н Рудерман; он постоянно сосредоточен на идее истребления цветных бабочек, отчего его лицо искажено судорогой поиска.
– Зачем бабочек губить? – как-то спросил я.
– Это необходимо! – ответил Рудерман. – Разве не понятно?
Вожу по листу бумаги карандашом – у Рудермана замечательное лицо.
– Ловко, – говорит Зина, указывая на лист. – Ловко.
– Практикуюсь, – говорю я, – набираюсь опыта…
– Портрет Рудермана – это то, что тебе надо?
– Пока – то…
Зина молча поворачивает лицо к дороге, уводящей из Беер-Якова.
– Дежурство прошло нормально? – спрашиваю.
В ответ Зина что-то напевает.
– Что это?
– Русская песня «Когда я на почте служил ямщиком», – смеётся Зина.
– Ещё! – прошу я. – Спой ещё.
Зина улыбается, а глаза грустные.
– Что означает «когда я на почте служил» – понимаю, но что означает «ямщиком»? На нашей почте такой должности не было…
Зина резко вскидывает голову и смотрит на меня в упор.
– Пытаешься стать художником? – спрашивает она.
– Пытаюсь жить, – говорю я.
– Жить?
– Только, ради бога, не спрашивай, что это означает.
– Не буду, – глаза Зины смотрят чуть растерянно.
«Кажется, я ещё не влюбился, – решаю я. – То есть, ни к чему об этом думать, если пока ещё…»
– Сбежать бы куда-нибудь, – говорю я и слышу, как стучит моё сердце. – Тебе не хочется?
– Ещё как!
– Правда? – стараюсь говорить весело, но получается сдавленно, будто меня тянут под воду.
– Ещё как хочется, – повторяет Зина.
– Освобожусь в десять, и можно будет поехать к морю, чтобы послушать, как бегают волны. Так, как бегают волны, никто в мире бегать не умеет.
Смотрю, как Зина уходит.
Мой сменщик Рахман приходит ровно в десять.
***
Опустив в «фиате» боковое стекло, вдыхаю тепло ночи и, включив приёмник, ловлю бодрящий шёпот саксофона.
Месяц четвертый
Первая женщина, в которую я влюбился, была арабка из Лода. Ей было за пятьдесят, но для меня её возраст существенного значения не имел, так как мне было около двенадцати.
По утрам арабка появлялась на нашей улице с тележкой, груженной дынями, и оставалась на тротуаре до наступления темноты; я трепетно разглядывал её груди, которые каждая были величиной с супную кастрюлю; и были они не круглые, а квадратные, и находились не там, где у других женщин, а прямо на животе. Груди арабки приводили меня в мучительное состояние, и по ночам мне снилось, что они колышутся на моих дрожащих от возбуждения коленях, а я заботливой рукой отгоняю наглую муху, которая норовит разместиться именно на том, что волнует меня больше всего на свете.