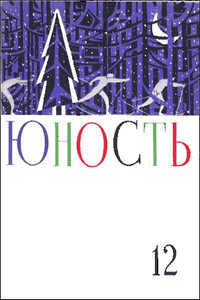Избранные произведения: в 2 т. Том 1: Повести и рассказы | страница 42
— Читал! — вызывающе ответил Эдька. — Я грамотный, что мне делать?
— Неграмотным запрещать не надо, — сказал Саша холодно, — они и так не прочтут.
Эдька вздернул голову.
— Неграмотных у нас нет!
— Значит, это касается всех.
Мы же дружили. И мы знали друг друга, как себя. Зачем они так сцепились?
И вот… Толя Калинкин осторожно предположил:
— Может, это отступление — кутузовский маневр? Заманиваем их, чтобы растянуть, ослабить и…
«Верно», — подумал я, радуясь, что Толя переменил тему.
— Куда заманиваем? — спросил Эдька настырно. — Сколько жизней вы готовы заплатить за этот маневр, фельдмаршал Калинкин-Малинкин? На войне за все платят жизнями! Нет! У всех вас ни за что не болит душа! А у меня болит! Я свой!
— Ты паникер, Музырь, — сказал Саша.
— Самый нормальный псих.
— Ты зловредный паникер, Музырь, — повторил Саша, не повышая голоса, что было совсем худо: мы-то знали его осмысленную категоричность.
— Расчет, к орудию! — долетел голос сержанта Белки.
Мы с Толей ухватились за край щели, Саша с Эдькой помогли нам выбраться. Не знаю, скоро ли они кончили бы свою ссору, но теперь все мы стояли у лафета гаубицы. Батарея развернула орудия в сторону дороги, по которой мы пришли сюда. Не очень далеко мы оторвались от пехоты. Но, видно, пехота не успела занять доты укреп-района. Одинокая ракита стала точкой наводки.
Глаз панорамы обычно смотрит с гаубицы не вперед, а в тыл или в сторону. Получаешь команду, ставишь барабанчики прицельного механизма на нужные деления, выгоняешь уровень, ловишь перекрестьем, скажем, эту одинокую ракиту, к которой как бы привязано орудие, и вот уже ствол гаубицы нашаривает своим зевом далекую невидимую цель, за которой следил сейчас наш лейтенант Синельников. Какой она была? Скомандовали — бронебойными. Значит, по танкам.
Где-то впереди, там, вжимаясь в землю, прятались артиллерийские корректировщики. Они сейчас видели эти танки. И нацеливали нас, сообщая радистам все координаты и поправки после взрыва каждого снаряда.
Радисты передавали и принимали слова команд. Белка перекидывал их мне, как другие командиры орудий своим наводчикам, и отрывисто прибавлял:
— Первое!
Я дергал за спусковой шнур, а все отскакивали хоть на шаг от гаубицы, открыв рот. Она бухала громоподобно. Все чаще Белка заменял номер орудия коротким словом «Огонь!» и делал его еще короче:
— Гонь!
Гаубица вздрагивала и откатывалась, сошник лафета зарывался в землю. Улетали, переполаскивая знойный воздух, полуметровые снаряды, жарко пахло горелым маслом и порохом. Мы стреляли. Мы вели беглый огонь. Это были, наверно, счастливые минуты. Дни, месяцы, годы, начавшиеся с того июньского воскресенья и несущие столько непоправимых бед, чем они могли осчастливить? Как и Белка, я смотрел утром на березовую рощу, оставляемую нами, и что-то происходило со мной такое, чего никогда не бывало раньше. Неужели я только тогда понял, как люблю эту землю? Каждое ее дерево. Каждый пригорок. Любовался ими раньше, знал, что люблю, но только теперь почувствовал как. И само собой рождалось щемящее чувство ответственности хотя бы за один клочок родной земли. Про это чувство мы тоже знали, но испытать — это совсем другое. От нас зависело, быть или не быть у этой ракиты фашистским танкам.