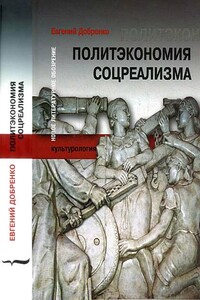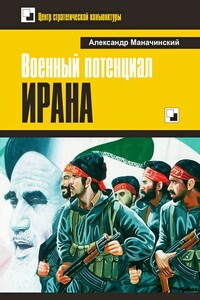Сталинская культура: скромное обаяние антисемитизма | страница 16
И здесь возникает вопрос: верно ли, в самом деле, что целью сталинской политики была полная ассимиляция евреев? Ведь удар 1948—1953 гг. пришелся как раз по наиболее ассимилированной, обрусевшей, часто «полукровной» еврейской интеллигенции, которая в 1930–е годы показала себя наиболее лояльной режиму (куда более лояльной, чем, к примеру, многие «титульные нации», питавшие не только националистические, но куда более опасные сепаратистские настроения!) и после войны в значительной свой части была полностью деэтнизирована. Поэтому широко распространенный тезис о том, что сталинская политика государственного антисемитизма была якобы направлена на форсированную ассимиляцию евреев, должен восприниматься с осторожностью: будучи мастером интриги, Сталин обычно просчитывавал свою политику на много ходов вперед, поэтому трудно предположить, что он не понимал последствий своих действий, которые вели не столько к ассимиляции, сколько, наоборот, к разжиганию еврейского национализма.
Правда, однако, и то, что после войны Советский Союз стал мировой державой, настоящей империей, с куда более агрессивной и экспансионистской политикой, чем до войны. Этот международный аспект, несомненно, присутствовал в сталинских расчетах. Провоцировал ли он Запад своими акциями? Был ли сам к концу жизни настолько неадекватен, что не отличал реальность от собственных параноидальных фантазий о всемирном еврейском заговоре и сионистско–националистическом подполье, проникшем во все поры советской системы — вплоть до МГБ и Кремля?
Все эти вопросы остаются за пределами книги Люстигера. Автор пишет свою «трагическую историю» с точки зрения жертв, что придает повествованию персональное измерение, делая его даже стилистически весьма эмоциональным, хотя оно и построено в манере традиционного исторического нарратива: широкими мазками, с яркими деталями, интересными (хотя и не всегда точными) подробностями.