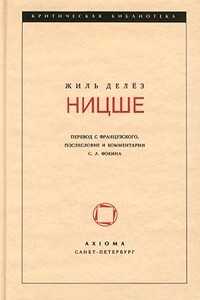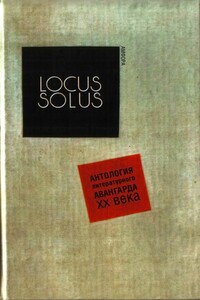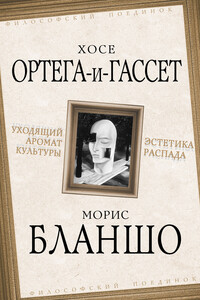Мишель Фуко, каким я его себе представляю | страница 9
Констатировав и разоблачив это, испытываешь чувство, что Фуко некоторым образом чуть ли не предпочитает эпохи откровенно варварские, когда пытки не стремились утаить свою жестокость, когда, преступления, не посягая на целостность Суверенного, устанавливали такие исключительные отношения между Высоким и Низким, при которых преступник, наглядно искупая нарушение запретов, сохраняет отблеск деяний, поставивших его вне человечества. (Так обстоит дело с Жилем де Ре, с обвиняемым из «Процесса» Кафки.) Доказательством чему служит тот факт, что смертные казни не только являлись поводом для всенародных празднеств, поскольку символизировали упразднение законов и обычаев (оказываешься в исключительной ситуации), но и побуждали иногда к восстаниям, подавая народу идею, что и у него тоже есть право порвать, восстав, ограничения, наложенные на него внезапно не таким уже сильным королем. И вовсе не по доброте душевной скромнее стала обставляться доля осужденных, отнюдь не из кротости нетронутыми оставляют тела виновных, нападая, чтобы их исправить или образумить, на «душу и дух». Все то, что улучшает условия содержания в карцерах, не вызывает, конечно, протеста, но подвергает нас риску ошибиться в причинах, сделавших эти улучшения желательными или возможными. XVIII век поощряет, кажется, наш вкус к новым свободам — очень хорошо. Тем не менее фундамент этих свобод, их «подполье» (говорит Фуко) не меняется, поскольку его всегда обнаруживаешь в дисциплинарном обществе, где господствующая власть скрывается, безмерно приумножаясь[1].
Мы все более и более подавляемы. Из этого уже не грубого, а деликатного подавления мы извлекаем знаменитое следствие, оказываясь подданными, свободными субъектами, способными трансформировать в знание самые разные приемы лгущей власти — в той мере, в какой нам нужно забыть о ее трансцендентности, подменяя закон божественного происхождения разнообразными правилами и разумными процедурами, предстающими перед нами, когда мы от них устаем, выходцами из некоторой бюрократии — конечно, человеческой, но чудовищной (не забудем, что Кафка, гениально, кажется, описавший самые жестокие формы бюрократии, перед нею же и склоняется, прозревая в ней чужеродность некой мистической — чуть ослабевшей — власти).
Глубокая убежденность
Если действительно захочется посмотреть, сколь нуждается наше правосудие в архаическом подполье, достаточно вспомнить роль, которую играет в нем сегодня почти невразумительное понятие «глубокой убежденности». Наш внутренний мир не только остается священным, но и продолжает делать из нас потомков савойского викария. Этого аристократического наследия все еще придерживается и аналитика совести (das Gewissen) у Хайдеггера: внутри нас имеется некое слово, которое становится приговором, абсолютным утверждением. Оно произнесено, и это первое изречение, избавленное от любого диалога, есть речь правосудия, права оспаривать которую никому не дано.