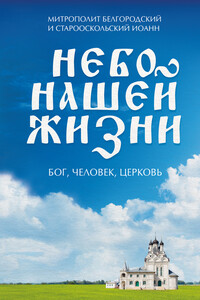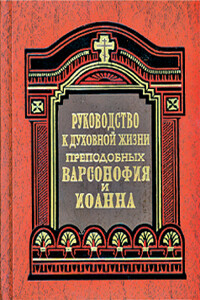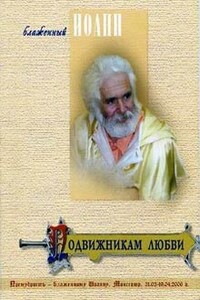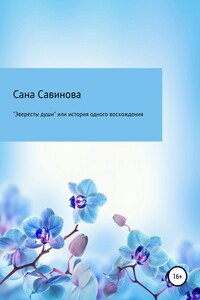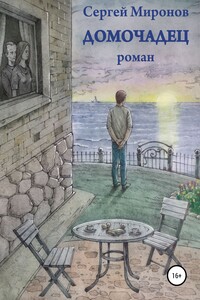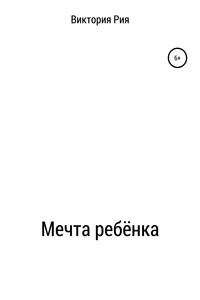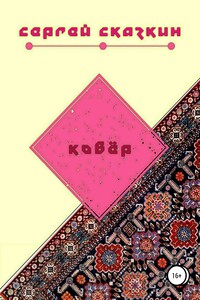Записки провинциального священника | страница 59
Не простил великий князь Московский Димитрий Иванович дерзкого монаха. Не помогло и заступничество митрополита Киприана. Ушел тогда иеромонах Даниил Сарский (прозванный так потому, что провел много лет в Сарае) в глухие, безлюдные места. Здесь по благословению митрополита он основал Сарский Преображенский монастырь и получил, наконец, от Предстоятеля Церкви сан игумена.
Не случайно, должно быть, Даниил основал монастырь в честь Преображения Господня. Видно, не только сближали его с митрополитом Киприаном общие церковнополитические идеи, но существовало между ними и глубокое духовное родство. Преображение Господне на горе Фавор особо почиталось исихастами, каковым был сам митрополит Киприан и, как явствует из названия монастыря, его опальный сподвижник.
Сарская Преображенская обитель при ее основателе была крохотным монастырьком с деревянной часовней и тремя избами для монахов. Но с годами она разрослась. Около монастыря появилось торговое село, а через два поколения, во время правления Ивана Васильевича, настоятель обители Филофей жаловался на шум и суету вокруг монастыря и, будучи продолжателем исихастской традиции, часто удалялся для умной молитвы в уединенные места, где возникло несколько скитов.
При Филофее Сарский монастырь достигает, можно сказать, вершины своего духовного расцвета. Сам Филофей (мирское имя его — Федор) в молодом возрасте, наслышавшись о подвигах афонских старцев, тайком бежал из родительского дома и после многих злоключений, исколесив Польшу, Германию и Италию, добрался все-таки до Святой Горы. Легко и быстро изучил он греческий язык и с жадностью необыкновенной набросился на книжную премудрость. Много читал патерики. Внимательно изучал сочинения преподобного Григория Синаита и, следуя его наставлениям, начал многотрудную борьбу с самим собой в жажде узреть собственными очами нетварный свет, просиявший на горе Фавор, и встретиться с Богом лицом к лицу. Читая творения св. Григория Панамы, он страстно переживал все драматические перипетии исихастских споров, ибо понял их главную пружину, их всеобъемлющий смысл, то, что ускользало от внимания его соотечественников, видевших в исихазме прежде всего ключ к нравственному совершенствованию. «Для россиян час еще не пробил, — думал Филофей,— но он пробьет, и они придут к той же драме и окажутся перед тем же страшным выбором, что и греки, зажатые между двумя жерновами: Западом и Востоком. И придется отвечать на вопрос, который сейчас может показаться им нелепым: как жить дальше — с Богом или без Него?» Вот он, вызов, брошенный ересиархом Варлаамом не только грекам, но и Руси, пока еще не подозревающей об этом.