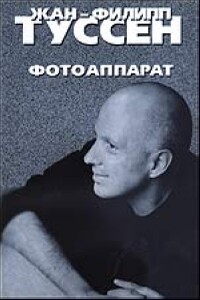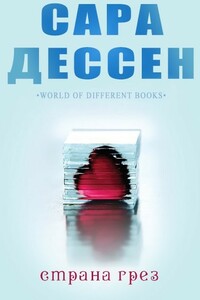Реки не замерзают | страница 20
Да, приходила еще одна — Домна Николаевна, старуха из-за свечного ящика. Обстоятельная, крепкая, как повязанная платком глиняная крынка, через края наполненная правильными словами, чересчур наполненная. Вот ей Мармеладыч на улыбку как будто скупился. Нет, улыбался, конечно, но как-то не так, по иному, и про смерть говорил не так: как будто не ей, а про других, а ей-то самой — еще жить, да не пережить. Наверное, из-за этого ее "чересчур" — не может, не должно в одном человеке умещаться столько! Домна Николаевна и просфорку приносила от литургии, и пирожок домашний, но все это приправляла своим приторным "чересчур" — так, забывши меру и разум, перестарок учитель обучает "за жизнь" несмышленышей-первоклашек. Холерик Харитонов в ее присутствии мерк, словно в нем кто-то сдвигал на уменьшение ручку реостата, делался незаметным и начинал походить на действительного инженера, только что скромно пережившего двадцатое число и тоскливо ожидающего четвертого числа следующего месяца. Шкаф пятился, толкал спиной медлительную на поступок Дусю, и оба они исчезали. Антон оставался… Мама, когда бывали они вместе в церкви, надевала такой же платочек — узорчик чуть-чуть другой, но лишь чуть-чуть. И фигурой мама была такая же основательная… Антон представлял, что это ему и маме говорит Мармеладыч, когда удавалось тому втиснуться промеж правильных "чересчур" Домны Николаевны. Когда та задерживала на вдохе слова, старик делился своим (хотя, "той" уже как бы и не было; были только они — Мармеладыч, Антон и мама…):
— Я тут данько напоминал Петру, — ему полезно, — что отцы святые говорили. Надо нам ежедневно умирать, чтобы жить вечно — это потому, что только боящийся Бога будет жив вовеки. Страх Божий — лучшее от греха лекарство.
Ох уж этот Мармеладыч! Никак не шел из головы. И добродушное его лицо с реденькой седой бородкой, и безпомощно открывающая себя миру лысоватость, лишь на висках и затылке скудно обрамленная пожелтевшими завитушками волос. Да, о Мармеладыче здесь, в Лисово, думалось хорошо. Ладно и ловко вписывался его образ в лисовскую обнаженную необъятность. Играющие на ветру сережками березки готовы были приподнять для него мягкий шелестящий полог, строгие еловые пирамидки вот-вот бы и расступились, потеснили бы ряды, чтобы принять в средь себя его щуплую, сутуловатую фигуру, и лисовский сумрак готов был укутать его, укрыть, успокоить… Иное дело город, — колючий, холодный, равнодушный, — до него здесь совсем не было дела. Антон замер, боясь потревожить пойманную вдруг мыслью вечность и мирно пребывающего в ней Мармеладыча и маму, конечно же... Маму… Увы, скамейка рядом опустела, мама ушла. И ему пора. Антон поднялся и одиноко застучал ногами по пустым лисовским аллейкам, теряя в грустном сумраке годные к употреблению лишь здесь, в Лисово, мысли. Да и какой в них прок там, где отечества, по словам Мармеладыча (а уж он-то не может ошибаться), нет даже в пророках? "Мы, итальянцы, безрелигиозны и испорчены более всех других", — прошептал Антон. Макиавелли, делая таковое признание, возможно, просто играл словами. Это куда как легко, коль чувствуешь себя хозяином всякого слова. Но Антон сгибался под тяжестью этих слов — когда ты не хозяин, то вовсе не до игры.