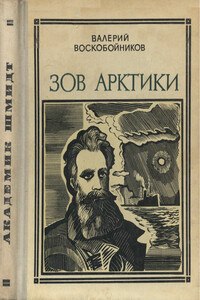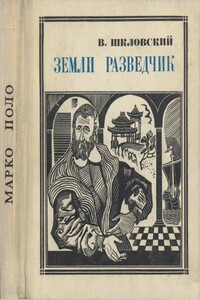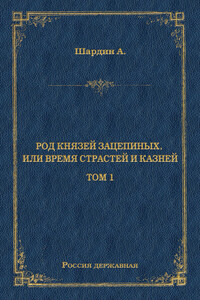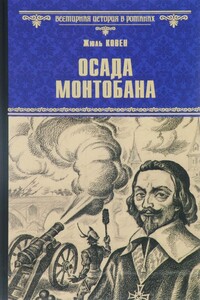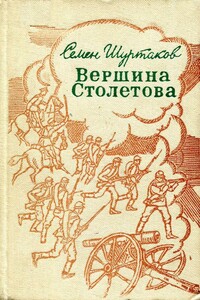За великое дело любви | страница 17
Да, так и было — он кричал в пути.
Когда Яшу везли на извозчике в охранку, публика с недоумением смотрела, как два жандарма в теплых мерлушковых шапках держат за руки с обеих сторон сильно помятого паренька в изорванном кожушке и с непокрытой головой, несмотря на холод; сопротивлялся, должно, при аресте, и шапку с головы паренька сбили. И верно, не давался Яша, отстаивал до последнего дорогое знамя, себя не жалел, отбивался как только мог.
И сейчас, назло одолевшим его жандармам, улыбался, это-то и удивляло прохожую публику. А улыбался он прежде всего оттого, что вспомнилось и не выходило из головы выражение: «Жандармы чижика съели», то есть опростоволосились, не сумели предотвратить демонстрацию, и отныне это будет навсегда особый день, а не просто день зимнего Николы.
А во-вторых, улыбался Яша еще и от задора, чтобы не выдать боли от побоев. И кроме того, смешно было, что вот, наверно, скоро опять его по этапу отправят домой, к отцу, и вся деревня будет говорить: «Ай да Яшка!» А на фабрике Торнтона скажут: «Молодец! Постоял за нашего брата, и хвала тебе».
Так утешал себя Яша в эти минуты.
Думалось о Юлии — на площади она все кричала Яше: уходи, уходи, уходи! И мысль о Юлии тоже воодушевляла, укрепляла веру в себя и в силу людей, подобных этой девушке. Он припоминал, как она прочла минувшей ночью стихи: «Есть времена, есть целые века, в которые нет ничего желанней, прекраснее — тернового венка», и думал: может, это так и есть, и коли Юлию сейчас тоже везут куда-то, а шляпку с нее, наверно, сбили, то пусть ее согревает мысленно надетый Яшей на нее венец.
А что такое терновый венец, Яша знал: наслышался о нем достаточно, в революционной среде народников упоминался этот венец часто. Ветка этого колючего деревца на голове означала, как понял Яша, готовность к терпению и стойкости. Не раз он слышал и выражение: «Тернистый путь». Ну что ж, готов и Яша вступить на эту дорогу вслед за теми, кого схватили на площади. И хотя, правду сказать, минутами у Яши душа уходила, что называется, в пятки, он старался превозмочь страх, не дрожать, не поддаваться слабости. Злой декабрьский ветер обдувал его белобрысую голову, мерзли уши, еще красные от пережитого волнения.
Эх, чем бы еще досадить жандармам? Задор в Яше не утихал, и, прежде чем тюремная дверь захлопнется за ним, хотелось еще что-то смелое сделать; смелые голоса, слышанные на площади у собора, еще звучали в ушах Яши. Держали его с обеих сторон так, что не двинешь рукой, но как не могли запретить ему улыбаться, так и голосом своим он волен распоряжаться. И когда проезжали мимо Аничкова дворца, Яша набрал в грудь побольше воздуха и крикнул изо всех сил: