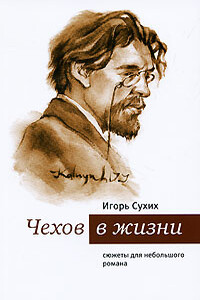Сказавшие «О!» Потомки читают Чехова | страница 24
В связи с этой задачей — “дать картину всей России” — близким Чехову писателем из “первой литературы” оказывается Гоголь (в первой статье говорилось о “метафизической бездне” между ними).
Чеховский жанр короткого рассказа тоже воспринимается Эйхенбаумом не изнутри современной Чехову массовой литературы, осколочной традиции, а на фоне большой русской классики – как принципиальный жест, историческая победа младшей линии. “Дело не только в том, что Чехов ввел в русскую литературу короткий рассказ, а в том, что эта краткость была принципиальной и противостояла традиционным жанрам романа и повести как новый и более совершенный метод изображения действительности”.
Декларируемый в четырнадцатом году “разрыв между прозой и поэзией” (отсюда и мечта об акафисте) через тридцать лет сменяется идеей о сплошной поэтической природе чеховского повествования, его глубочайшем лиризме. “Вся система Чехова была построена на лирике — на смехе и грусти; эпическое начало не соответствовало его методу. <…> Так получилось, что человеческая жизнь полностью вошла в литературу. Чехов преодолел иерархию предметов, преодолел различие между „прозой жизни“ и ее „поэзией“, стал, по слову Толстого, истинным и несравненным „художником жизни“”.
В небольшой работе нашлось место и размышлениям о роли медицинского образования в формировании чеховского метода, и проблеме соотношения образа автора и автора биографического. Статья кажется конспектом — так и не написанной — монографии Эйхенбаума о чеховском творчестве.
Печать времени ощутима в этой статье, пожалуй, лишь в слишком частом цитировании Горького и, как всегда у Эйхенбаума, эффектной, но прямолинейной концовке. “Чехов умер накануне революции 1905 года. Явились люди уже не с молоточками, а с рабочими молотами. На вопрос Чехова: „Во имя чего ждать?“ — они ответили: „Больше ждать не будем“”. Чехов здесь слишком явно загримирован под Горького и приспособлен к требованиям эпохи. Но это единственная уступка ермиловскому официозу.