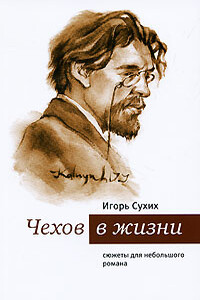Сказавшие «О!» Потомки читают Чехова | страница 25
Чуть позднее, в 1946 году, развернутую концепцию художественного мира Чехова и его места в истории русского реализма предложил Г. А. Бялый, еще один профессор Ленинградского университета, недавно вернувшийся из саратовской эвакуации.
Бялый тоже использует ходовой образ Чехова-борца, но остроумно трансформирует его, переводит из социологического контекста (борец с пошлостью дворянством или буржуазией) в контекст историко-литературный, делает его инструментом конкретного анализа.
При таком подходе писатель (вместе с Гаршиным и Короленко) становится борцом за новое искусство, однако более радикальным, чем современники. “В своем отрицании старых путей Чехов значительно радикальнее Гаршина и Короленко. Глубокая неудовлетворенность старой литературной традицией сказывается с первых шагов его деятельности”.
В этом ключе противопоставлены Чехонте и Чехов. Молодой писатель менее радикален. Пробуя разные темы и жанры (особо отмечена разрушительно-конструктивная роль чеховской пародии), он тем не менее исходит из привычных эстетических установок. “Все пути, которые перепробовал в начальном периоде своего творчества Чехов, предполагают: 1) что писателю известна „настоящая правда“ о жизни, неизвестная читателю и, следовательно, миру, и 2) что, значит, в произведении может быть и даже должна быть дана, декларирована и прямо выражена позитивная „норма“ жизни и человеческих отношений. Применив во многих своих произведениях этот принцип в различных его формах, Чехов отходит от него, отказывается oт обеих предпосылок, лежащих в его основе”.
Ключевым в понимании позднего Чехова становится категория нормы в ее отрицательном, апофатическом значении (хотя, конечно, Бялый этот термин религиозной философии не употребляет). Опорой для такого понимания становится известное письмо к А. А. Плещееву от 9 апреля 1889 года, в котором Чехов признается: “Норма мне не известна, как не известна никому из нас” (П 3, 186).
“В связи с этим меняется и взгляд Чехова на роль „нормы“. „Норма“ мыслится им не как нечто позитивное, прямодекларируемое, а как начало негативное: писатель может чувствовать отклонение от „нормы“ и обязан это отклонение показать в своем творчестве; в то же время точным определением „нормы“ он может при этом и не обладать, — комментирует Бялый. — Теперь задача Чехова иная; противопоставление „низкого“ строя жизни и мысли высокому сменяется молекулярным анализом „мелких дрязг“ и „пустяков“, анализом, производимым в сфере обыденного, т. е. в сфере не „низкой“ и не „высокой“, но одинаково вбирающей в себя и то и другое”. (“Молекулярный анализ” прямо соотносится с замятинским определением “молекулярная драматургия”, которое Бялый, конечно, знать не мог.)