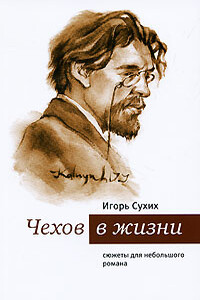Сказавшие «О!» Потомки читают Чехова | страница 23
В учебной литературе еще в середине 1960-х годов Ермилова называли автором, “открывшим новый этап в советском чеховедении”34.
В любой гуманитарной науке советской эпохи проходила невидимая граница между официозом и официальной оппозицией. Книги и статьи печатались в одних журналах и издательствах, проходили через одинаковые издательские и цензурные фильтры, но в результате — по гамбургскому счету — оказывались на разных полюсах.
На самом деле новый этап в советском чеховедении открывали — в это же самое время — совсем иные люди.
Статья Б. М. Эйхенбаума появилась в недавно освобожденном от блокады городе, в опальном в скором будущем журнале “Звезда”. В рукописи она имела пометку: “24 июля 1944 г. (по возвращении из Саратова)”: во время блокады профессора и студенты Ленинградского университета находились в этом волжском городе.
Эйхенбаум любил рифмы судьбы и воспринимал свою деятельность историка литературы как историческую35. Это было его второе обращение к творчеству писателя. Впервые он написал о Чехове ровно тридцать лет назад, к десятилетию со дня смерти. Обе работы имеют одинаковое скромное заглавие — “О Чехове”. Между ними поместились формалистская эпоха бури и натиска со знаменитым манифестом “Как сделана „Шинель“ Гоголя”, годы занятий текстологией, многотомная монография о Толстом, исследования о русской лирике и Лермонтове — почти вся жизнь ученого.
“О Чехове” четырнадцатого года — критическая полемика, построенная на двух простых тезисах: Чехов был эпигоном реализма, колебавшимся между Тургеневым и Толстым, но полностью игнорировавшим Достоевского, а также обнаруживал уклон к аскетизму, интерес к церковности, любовь к образу монаха.
Статья завершалась виньеткой-итогом: “В его художестве все „плотское“ совершенно откололось от „духовного“, поэзия — от прозы, мечта — от действительности. И это оттого, что настоящий, толстовский реализм завершал в Чехове свой круг. Чехов нес на себе тяжелый крест эпигонства и мечтал об акафисте. Он сам чувствовал тяжесть этой ноши и облегчал ее только юмором, которым щедро наделила его природа” 36.
Через тридцать лет Эйхенбаум полемизирует не только с чеховскими современниками, но и самим собой. Сохраняя некоторые из прежних наблюдений, он придает им совсем иной смысл, встраивает в широкую историческую концепцию.
Мысль об эпигонстве Чехова трансформируется в генетически восходящую к формальному методу идею о борьбе и постоянной смене