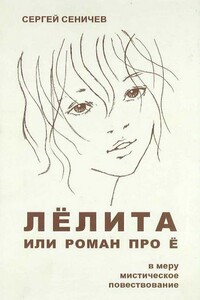Диагноз: гений. Комментарии к общеизвестному | страница 35
Остается пожалеть, что мы не знакомы с изначальным вариантом текста. Сам автор писал по этому поводу: «Первое начертание… было ГОРАЗДО великолепнее и высшего значения, чем теперь, в суетном наряде, в который я принужден был облечь его. Ребяческое удовольствие слышать стихи мои в театре, желание им успеха заставили меня ПОРТИТЬ мое создание, сколько было можно».
Тут, что называется, без комментариев…
Составители сборника «Сто великих поэтов» не сочли возможным вставить Грибоедова в сей престижный список. Они по-своему правы: в «Горе от ума» всего три тысячи строк. Но в том и величие Александра Сергеевича Первого, что как минимум КАЖДАЯ ТРИДЦАТАЯ из тех трех тысяч (поверим маститым филологам) стала пословицей.
Кто-то из знакомцев автора рассказывал, что через пару лет после его смерти понавырезал из газет с журналами цитат из запрещенной комедии и сверил их с имевшимся под рукой списком. И обнаружил, что в надерганном не хватает до полного текста всего 128 стихов…
На праздный же вопрос, как ему творится, наш герой ответил сам — коротко и исчерпывающе: «Я как живу, так и пишу СВОБОДНО и СВОБОДНО».
И понимайте, как хотите…
Предельно романтизирован образ СУВОРОВА. И будто бы спал урывками да всё на соломе, и питался лишь солдатскими щами да кашей, и одевался скромнее скромного… Одним словом, жил Суворов сурово.
На деле же всё обстояло несколько прозаичней и благообразнее. На соломе спать — да, обожал. И сено вместо перин ему стелили даже в Таврическом дворце, где разместила его государыня на время пребывания в Петербурге (по ее личному приказанию и стелили). И мундиром Александр Васильевич не брезговал (а кроме русского, у него еще и австрийский имелся — фельдмаршальский же). И ордена он на него цеплял с превеликим удовольствием, когда повод имелся…
Вот как выглядел со слов адъютанта рядовой день Суворова в Тульчине, где он главнокомандовал югом России (под его начало были переданы войска четырех губерний и Таврической области) и где написана была знаменитая «Наука побеждать». Просыпался Александр Васильевич в два пополуночи, окачивался у пылающего камина холодною водой, обтирался простынею, пил чай, призывал повара и заказывал ему обед из 4–5 блюд (вот и верь слухам про щи да кашу), которые подавались, по обыкновению, в маленьких горшочках. После чего некоторое время занимался делами — читал, писал…
К «читал», кстати, следует относиться с уважением. Рассказывали, что в Турции, он запросто «выучился по-турецки», в Польше — по-польски, а в Финляндии по-чухонски. С другой стороны, ходили анекдоты про то, как в 1799-м по пути в Вену фельдмаршал обращался с речами к местному населению «на таком же непонятном немецком языке, как и его французский». Понятными ли, нет казались современникам французский с немецким Александра Васильевича, а по-любому выходит полиглот. Во всяком случае, одних газет он выписывал на 300 рублей в год — аж из семи стран, и, значит, с языками было всё в порядке.