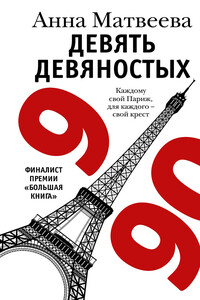На картине | страница 3
Какое счастье, что в галерее еще никого нет, — поздние пташки. Ни души, кроме сторожа Василия Васильевича, он же — охранник Вась-Вась. Душа Вась-Вася широко открыта для диалога, у него рыжие брови и кудри, как у женщин на картине Лукаса Кранаха, у него форменная куртка с шевроном ЧОП “Надежда-1999” и стойкая привычка пересказывать сны в подробностях. Иногда мне кажется, Вась-Вась не понимает разницы между сном и мечтою, так вдохновенно звучат у него некоторые эпизоды, — по-моему, увидеть такое во сне мог бы только Феллини. Или Антониони. Впрочем, мои черепаха и пеликан — тоже не слабо. Сейчас можно бы отплатить Вась-Васю за мучительные минуты, когда он, прижав меня к стене, излагал сновидения, — будто я не работник галереи, а какой-нибудь Зигмунд Фрейд. Никому больше — ни Гере Борисовне, нашему директору, ни ГББ, ни художникам — Вась-Вась и не пытается открыть свою сонную душу.
— Доброе утро, Зоя! — угрожающе говорит Вась-Вась. — Ни за что не угадаешь, что мне сегодня приснилось.
— Я даже и пытаться не стану, Василий Васильевич, — вежливо отступаю в сторону моего кабинета, куда Вась-Вась — ни ногой.
— Забеги потом, — кричит охранник, — я тебе расскажу. Это не сон, а целый фильм с моим участием в главной роли!
Дверь закрыта, кабинет с ночи проветрен и холоден, как улыбка Геры Борисовны, которая воссияет передо мной ровно через двадцать минут:
— Доброе утро, Зоя, как дела, ты готова к выставке, ничего не забыла?
Гера Борисовна — собственно, и есть настоящая галеристка, а я — ее заместитель и галерная рабыня. Хозяйка младше меня на два года, но выглядит старше на десять, и я ее от всей души боюсь и уважаю. Я вообще боюсь людей, которые без конца учатся и получают все новые и новые знания. Мне кажется, это латентные сектанты. У них и лексикон такой же — тренинги, семинары, групповые занятия, самопрезентации.
Улыбка Геры Борисовны почти безупречна — только один из верхних зубов (“четверка”, как говорят дантисты) слегка провален, как запавшая клавиша в старом рояле. И эта улыбка стремительно исчезнет, если я вдруг облажаюсь с открытием “14. 11. хх”. Название придумал Арчибальд Самойлов — каюсь, не хватило сил выслушать полную версию трактовки. Я, впрочем, запомнила, что это сразу и прощание с двадцатым веком (хотя все, кроме Самойлова, с ним уже давным-давно простились), и наше заиксованное, непостижимое будущее, и легкий, игривый намек на фривольное содержание работ. Если вы, конечно, увидите в этих картинах вообще хоть какое-то содержание.