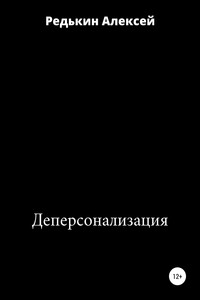Я, которой не было | страница 37
Передо мной — просторная парковочная площадка, за ней белеет фильтрационный барак. Мгновение спустя местность трансформируется у меня на глазах, парковочная площадка превращается в аппельплац, на котором неподвижно лежат сотни людей, а белый барак кажется белым автобусом. Это какое-то иное освобождение, это не мое воспоминание. И все же принадлежащее мне. Еще семь лет до моего рождения, но именно в этот миг началась моя жизнь. Вон там стоит Херберт, уронив руки, вглядываясь куда-то поверх человеческого моря и пытаясь осмыслить, что он видит. У его ног лежит истощенная девочка с разинутым ртом. Труп. Только труп этот живой.
Вдохнув, замираю, и картинка исчезает, аппельплац превращается в парковку, автобус — в барак. Непроизвольно мотаю головой. Хочется больше увидеть, больше узнать о том, что там произошло. Как все это было на самом деле? Мама вцепилась обеими руками в его запястье, так, что не отцепить? Или папа сам наклонился и, взяв ее в охапку, понес в тот белый автобус?
Нет, это кажется неправдоподобным. С другой стороны, неправдоподобным кажется и то, что он в самом деле забрал ее в Несшё и женился на ней. Притом что единственное, к чему он в жизни стремился — это быть самым обыкновенным человеком. Нормальным. Среднестатистическим. Как все остальные. Поэтому он прожил свою жизнь потихоньку, делая вид, что произошедшего не произошло.
Нет. Он был прав тогда. Мне есть в кого пойти. Во всех смыслах.
Бросаю последний взгляд на фильтрационный барак, уже нагибаясь за сумкой. Здорово, что в нем не оказалось для меня места, что мне не пришлось ради собственного блага упражняться в искусстве покупки молока и чтения расписания поездов. Так-то лучше: в какой-то миг — принуждение и решетки, а в следующий — полная свобода. По крайней мере та, что положена при условно-досрочном освобождении. И здорово, что солнце все еще греет. Я поворачиваю к нему лицо, уже ступив на мост. Хинсебергский мост. Во всех моих мечтах я останавливалась посреди него и, облокотившись о перила, глядела на серо-стальную воду Вэрингена, но осуществлять эти мечты не хочется. Тюрьму я уже покинула, и дальнейшие прощания ни к чему.
Сумка тяжелая. То и дело приходится останавливаться поправить ремень, глубоко врезающийся в плечо. Это последние восемь книг, я не смогла с ними расстаться, когда раздавала остатки своей библиотеки девчонкам нашего отделения. Я уже больше месяца назад поняла, что они тяжелые, и подумывала, не заказать ли чемодан с колесиками в каком-нибудь почтовом каталоге, но меня удержала собственная сентиментальность. Вот эта сумка, купленная восемнадцать лет назад в Южной Америке, — напоминание о тогдашней молоденькой журналистке. Я застряла в Монтевидео между двумя самолетными рейсами и от нечего делать прогуливалась по гостиничному саду среди цветущих гибискусов. В магазинчике при входе в гостиницу очень дешево продавались сумки, и я купила себе здоровенный кожаный баул, потому что он принадлежал некоему образу, той, кем я хотела стать. В то время я часто покупала вещи, принадлежавшие той, кем я хотела стать, я носила собственноручно сшитые шелковые блузки и кофточки из мягчайшего кашемира, словно своего рода камуфляж. Солидная кожаная сумка из Монтевидео завершала образ. Заметив несколько часов спустя свое отражение в ночном черном стекле аэропорта, я не смогла сдержать улыбки. Там была она, не Мэри и не Мари, но та, третья, что была лишь обликом, та я, которой мы обе хотели бы стать.