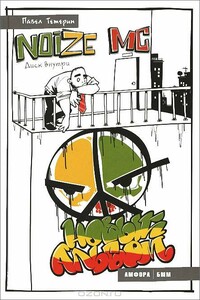Медный закат | страница 20
Я не был до конца откровенен. И чтобы потом самому себе не объяснить столь похвальную сдержанность постылой советскою осторожностью, я успокоил себя естественным и правомерным соображением о том, что глупо и неприлично распахиваться перед едва знакомой, впервые тебя посетившей девушкой. Мог ли я рассказать, что пьеса жила во мне еще до сюжета, что зародилась она давно, возможно, еще в бессонном отрочестве, когда, неведомо почему, я стал различать сквозь незримую оптику в солнечном свете траурный цвет.
Сказать, как стала меня преследовать какая-то горестная мелодия, еще не ставшая той, варшавской? И что хватило двух-трех зигзагов моей биографии, чтобы стремительно вдруг ожила, вдруг спелась пьеса. Нет, исповеди такого рода необходимо держать при себе. К тому же эта чилийская гостья по-своему повторяет путь моей варшавянки, и надо быть бережным.
И я сказал:
— Не знаю, Патрисиа. Пьесы рождаются очень странно. Однажды все сходится, словно в фокусе. Какой-то кусочек твоих приключений, какое-то давнее состояние, какая-то неудовлетворенность, которую ты хочешь избыть. Нет, объяснить это очень трудно. Поверьте, тут нет никакого шаманства, но если однажды свой личный секрет ты делаешь общим достоянием, то вряд ли про это нужно рассказывать. Вот пьеса, найдите в ней то, что вам нужно, а то, что не нужно, то и забудьте.
Она помедлила и спросила:
— А есть у вас в пьесе любимая реплика?
— Может быть, есть. Надо подумать.
— А я могу сказать, и не думая.
— Какая же реплика, Патрисиа?
Она опять не сразу ответила. Похоже, что это врожденное свойство — подумать, стоит ли произнести.
Потом сказала:
— Когда в Варшаве они прощаются… Помните, Геля ему говорит: «Я даже отчетливо слышу звук, с которым дверь за тобой закроется. Тр-р-р… И больше тебя не будет».
Я рассмеялся:
— Спасибо, Патрисиа. Очень согрели вы душу автора.
Она спросила:
— Мне надо знать: если бы Геля осталась с Виктором, если бы им не помешали, были бы они вместе счастливы?
Этот вопрос, в котором я сразу же расслышал очень личную ноту, не только дипломантки, но женщины, меня растревожил. Уж слишком часто я задавал его сам себе.
Я честно сказал:
— Не знаю, Патрисиа. Вы спрашиваете об их совместимости. Представьте себе ее вечный трепет, ее беззащитное сердечко, достаточно раненное оккупацией, бедностью, изувеченным детством, ее уязвимость, неутоленность, особую тонкость, и рядом с ней он, делящий мир на своих и чужих, с солдатским прошлым, с долей плебейства. Другое дело, что он открыт, что зряч и чуток, что резонирует, что в нем есть способность к саморазвитию и, может быть, даже — к преображению, что каждый миг, проведенный с нею, делает его лучше и выше, что отторжение жизнеопасно, он станет другим — тусклее и площе. Кто знает, были бы они счастливы? Но друг без друга они несчастны — это, по-моему, очевидно.