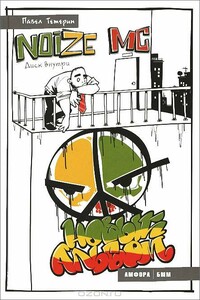Медный закат | страница 21
Она не ответила даже словом, я понял: сейчас она примеривает все сказанное, мою интонацию — не только к будущему спектаклю, но к будущей жизни, к собственной жизни.
Потом вздохнула:
— Да, это правда. Они друг без друга стали несчастны. Так государство совсем бесчувственно?
— О, нет. Оно завистливо. Мстительно. Обидчиво. Чувства так и кипят.
Она невесело рассмеялась.
— И как быть с надеждой?
— Надежда с нами. Мы замечательно устроены. Даже за миг до последнего вздоха надеемся на лучший исход.
Она кивнула:
— Должно быть, так.
Еще полчасика мы беседовали о грустной истории Гели и Виктора, потом она снова помолчала, будто обдумывала нечто важное, трогательно наморщила лоб и медленно, словно решаясь, спросила:
— Вы сейчас пишете новую пьесу?
— Стараюсь, Патрисиа. О Пушкине.
— Про то, как он был убит на дуэли?
— Нет. О дуэли написано много. Пьеса про лето в Санкт-Петербурге, почти за три года до Черной речки.
Она подумала, точно искала некий подтекст. Потом осведомилась:
— Что же тогда произошло?
— Вроде бы ничего, Патрисиа. Семейство уехало на природу. Жил он один, по-холостяцки. В полдень спасался от летнего солнца в Летнем саду. Петербург точно вымер. Стояла безветренная тишина. Но именно в такой тишине определяются наши судьбы. Надо было принять решение.
— Какое решение?
— Наиглавнейшее. Он понимал, что вся его жизнь, и прежде всего его работа, зависит, в сущности, от одного — сможет ли он изменить образ жизни, оставить столицу, оставить двор и обрести в одинокой деревне хотя бы подобие независимости. Тем более был он в долгу как в шелку. Семейство росло, мадонна супруга должна была выглядеть достойно. За все это лето он написал только одно стихотворение. «Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит».
— Он обращается так к жене?
— Да. К ней. Но вместе с тем — и к себе. Пора, мой друг. Не медли. Пора. Пока еще спасенье возможно. Он точно взывает — к себе самому, к изнемогающему рассудку и к ней, единственной: помоги мне. Мне худо. Покоя сердце просит. Он все понимал и все прочувствовал. Решение пришло не сегодня. «Давно, усталый раб, замыслил я побег».
Тревога, звучавшая в ее голосе, стала, казалось, еще отчетливей, а синие глаза округлились.
— Он разве был раб?
— Он был — усталый. Нет, безусловно, рабом он не был. Но постоянно страшился стать им. Знал, что тогда не напишет ни строчки — творчество несовместно с неволей. А еще больше боялся того, что так подумают остальные. Поэту в Империи очень скверно. Это закон природы, Патрисиа.