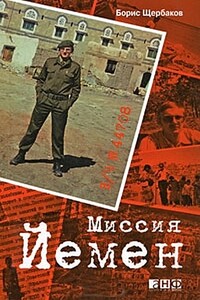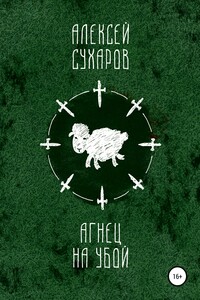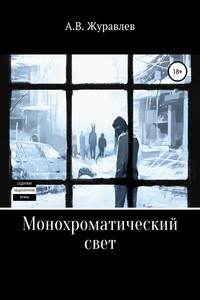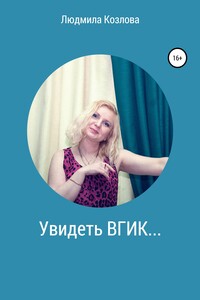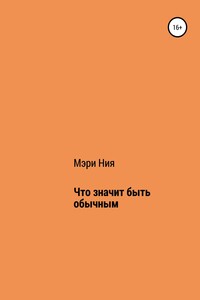Багдад: война, мир и back in USSR | страница 77
Так же, отчасти, можно было объяснить стремление перехода на английский простым когнитивным диссонансом — раз передо мной иностранец, то на чем же с ним, бедолагой, разговаривать, как не на универсальном английском? А иностранец, т. е., я с большим бы удовольствием и эффективностью поговорил бы тогда именно на арабском, ибо он был в активной фазе, а английский как раз — в пассивной, хоть я всегда продолжал самообразование, читал, но никак не надеялся, что через какие-нибудь 3 года английский будет меня «кормить», станет основным языком моего общения в рабочей среде.
Быть «двуязычным» в космополитичном Багдаде было полезно. И поднимало мой авторитет среди коллег до высот немыслимых. Мало того, что меня часто брал с собой на переговоры сам Торгпред, я переводил официальные переговоры (не всегда удачно, правда) — так однажды мне пришлось вести Торжественный Вечер, посвященный открытию какого — то фестиваля, вроде Дней Культуры Советского Союза, в самом что ни на есть центральном зале комитета кинематографии, да перед сотнями приглашенных иракцев и гостей из дипкорпуса, аж на трех языках, один из которых, понятное дело, родной русский. Важно ощущение — может я и дал петуха где-то в деталях, но собой я тогда был доволен, вечер провел с подъемом, а народ смотрел на меня как на национального героя. Или мне это показалось? Главное, что я себя чувствовал героем.
В любом языке очень важны детали. Грамматика, речевые навыки, это из обязательной программы, без этого в языке делать вообще нечего. Но важно а) однозначно и сразу поставить себе фонетику, не оскорбляющую слух носителей языка, б) набить свою лексику по максимуму полезными штампами, не чураться штампов, и в) не останавливаться, накапливать словарный запас, лезть в детали, искать этимологию слов, искать логику языка. Это все требует огромного количества времени, но больше — упорства, упертости даже. Молодые переводчики, приезжавшие в Багадад неизменно обращались ко мне за практическим советами, будь то просто методические рекомендации по чтению учебника, или помощь в переводах текстов. Не скрою, это льстило.
Я и сейчас думаю, на кой ляд память моя отягощена знанием языка, на котором мне никогда не придется разговаривать? Зачем мне до посинения напрягаясь разбирать графику какого-нибудь куфического письма, читать суры? Зачем мне знать, что бороздка, разделяющая косточку финика по-арабски будет «накыра»? Я помню очень восторгался этой чертовой бороздкой молодой переводчик Торгпредства Коля Гусев, парень почти двух метров росту (к несчастью, он умер в самом начале 90-ых, только переквалифицировавшись в аналитика на только что созданной тогда ММВБ…). А я Коле втолковывал, что именно в «накыре» весь смысл языка, именно в таком дотошном стремлении к деталям, к избыточности, к многомерности, что нужно заставлять себя читать газеты каждый день, причем не только политические и экономические новости, а рассказы и стихи (!!!) на последней странице, статьи по искусству, науке…