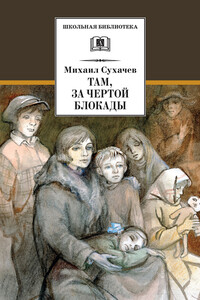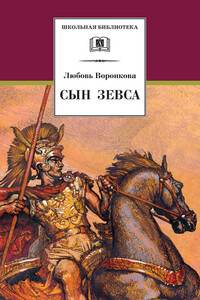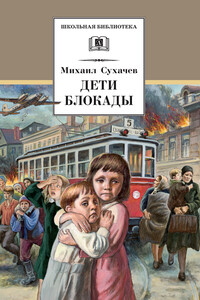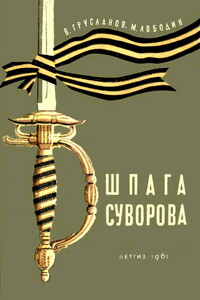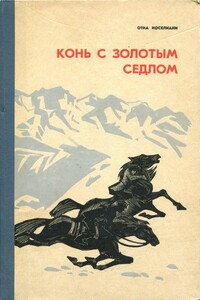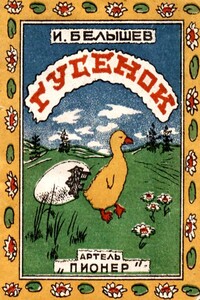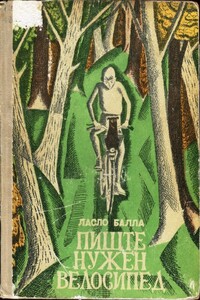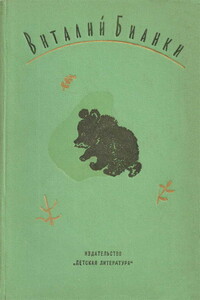По дорогам прошлого | страница 22
— Бросим винтовки, пойдем по домам! С нас хватит!
Кондукторы, проводники и машинисты поездов, возвращаясь из Петрограда, рассказывали, что там — революция, так, как было в 1905 году. Хозяева останавливают заводы, хотят заморить рабочих голодом, запугать безработицей. Рабочие бастуют, выходят на улицы с красными знаменами, поют запрещенные песни. А на знаменах написаны страшные для купцов, заводчиков и помещиков слова: «Хлеба!», «Долой войну!» и самое страшное — «Долой царя!»
Полиция стреляет в народ. Рабочие ловят и разоружают полицейских.
Вот что рассказывали в эти дни железнодорожники Пскова, возвращаясь из столицы.
В конце февраля они привезли из Питера большевистский манифест. Партия большевиков звала народ усиливать вооруженную борьбу против царского строя.
В ночь на первое марта на станцию Псков прибыл императорский поезд. В салон-вагоне находился царь со свитскими офицерами. Царя охранял казачий конвой.
Поезд стоял на третьем пути.
Вечером первого марта дежурный по станции Псков Григорий Томчук сидел за столом в своем служебном помещении. Там же на лавке пристроились составитель поездов, сцепщик и стрелочник. Телеграфист в это время вышел на перрон вокзала.
На аппарате послышались позывные: две точки, тире, две точки, тире — два коротких и один длинный глухой гудок. В те годы такой сигнал означал вызов.
Дежурный по станции подошел к аппарату и включился на прием. Перед его глазами медленно, справа налево поворачивался круг, освобождая узкую бумажную ленту, испещренную условными знаками.
«Вызывает Петроград… Вызывает Петроград… — дважды прочел он телеграфные знаки. — У аппарата председатель временного комитета Государственной думы Родзянко… Прошу немедленно вызвать к аппарату Николая Романова…»
— Читаю я и никак не соображу: какого это Николая Романова? — вспоминал как-то Григорий Антонович.
В памяти мелькнули фамилии сослуживцев, но среди них не было Николая. Работал здесь когда-то на ремонте пути старый дед Романов, но его звали Василием.
«Какая-то чертовщина!» — подумал дежурный и застучал ключом по морзянке: «Не понял! Повторите!»
И вскоре на ленте обозначились страшные значки, прибежавшие по телеграфным проводам из Петрограда:
>И М П Е Р А Т О Р А
— Императора! Царя, значит! — вскрикнул он в испуге, словно его обожгло тяжелое слово «император».
Дежурный вскочил со стула. До него, наконец, дошел смысл шифровки: к аппарату вызывали Николая II.
Это легко понять теперь, спустя пятьдесят лет после того, как свершилась февральская, а за нею Великая Октябрьская революция, когда само слово «царь» вызывает у наших школьников только образы героев сказки о царе Салтане или о Коньке-горбунке. А тогда царь — это было всё. Тогда нелегко было простому человеку понять, что «императора, царя и самодержца всея Руси» называли не «его императорским величеством», а запросто — Николаем Романовым и не «испрашивали соизволения» подойти к аппарату, а «вызывали».