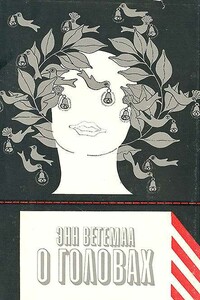Усталость | страница 5
Но все-таки почему я сегодня такой колючий? Ах, зачем играть в прятки — я же слишком хорошо это знаю! Одно из воскресений на ипподроме. Воскресный ипподром — теперь уже более чем пятнадцатилетней давности.
Я хлебнул рому.
Хрустит под колясками гравий, фыркают лошади.
— Неужели вы действительно не понимаете, зачем это нужно? — Стекла очков сверкают мне прямо в лицо. Этот плотный натиск, по-видимому, должен выражать доверительность, но он скорее отпугивает. Толстые стекла искажают глаза: они нелепо выпучены, еще немного и — упадут на стол, покатятся между тарелок и грохнутся биллиардными шарами на пол. — Вы же давнишний ученик Каррика, а когда ученик выступает против своего учителя н задает ему с трибуны небольшую, ну, небольшую порку, то это показывает… да, что это показывает? — Глаза удаляются, невидимые резинки возвращают их назад, в череп. — Это показывает, что маэстро не до конца испортил своих учеников! Ну, заразил их малость эстетизмом, затуманил им мозги этим, ну, как его, l'art'ом pour l'art'a[1], но соображение у ребят осталось. Значит, дела не совсем еще плохи … Разве не так?
Черт его разберет! Какая-то логика в таких разговорах есть… Только вот… Я чувствую, что он основательно сбил меня с толку.
— Берите горчицу! Свежая…
Оба мы — я и он — сидим в буфете ипподрома. Вот уж не подумал бы, что он тоже здесь бывает, и однако мы с ним столкнулись у кассы тотализатора, в очереди на выдачу. Одна и та же лошадка принесла нам выигрыш. Но у меня был один талон, а у него — три. Вот мы и отмечаем победу скромной трапезой.
— Иногда надо и самому стукнуть. Пока не избили, — умудренно говорит он.
Я испытываю к нему антипатию. Может, это из-за очков, которые всегда так не идут таким мужицким бруснично-багровым лицам. Хотя кто его знает? Может, наоборот, идут, ибо как раз подчеркивают то, что без очков оставалось бы незаметным, то, что совершенно не соответствует деревенскому духу таких людей.
Здесь, под трибунами, приятная прохлада. Над нами кишит воскресная толпа, потная от жары и азарта. Репродукторы трескуче обрушивают на ее головы истинно ипподромную музыку. Уже одна эта музыка заставляла меня сдержанно ухмыляться: сладкий тенор, воспевавший еще несколько лет тому назад бархатистые ночи венецианской любви и освещенные факелами гондолы, сегодня сообщал под духовой оркестр, что он бравый тракторист и любит доярку и в свободное от работы время знай отплясывает с ней польку, а полька рождает в них трудовой порыв. Не то чтобы эта деревенская полька очень уж уступала скольжению на гондоле, нет, просто этот голос, менее всего деревенский и мужицкий, вызывал некоторую иронию.