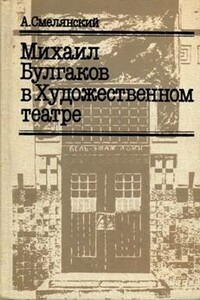Предлагаемые обстоятельства. Из жизни русского театра второй половины XX века | страница 9
Через несколько лет пьесой этого фронтовика «Вечно живые» откроется «Современник», а еще через несколько лет по мотивам этой же пьесы Михаил Калатозов и Сергей Урусевский снимут фильм «Летят журавли» с Татьяной Самойловой, фильм, открывший Западу душу военной и послевоенной России.
Оазисы театральной культуры, сохранившиеся от 20—30-х годов, практически поглощались пустыней казенного репертуара, подчинялись его контексту. Социалистический реализм завершал эволюцию, начатую в 30-е годы. «От сдержанной монументальности форм, крупных и лаконичных, от доли аскетичности даже в комедии, где праздничны и обильны только свет, цвет, переливы чувств, подмостки же почти пусты, — к монументальности многословной, разукрашенной, теряющей свою суровую искренность и устойчивость»>8. Конец 40-х и начало 50-х стали порой муки, если не падения для неподдельных мастеров социалистического реализма. Так мучился Алексей Попов на бескрайних просторах Театра Советской Армии, пытаясь сладить с исходно фальшивым батальным полотном «Южного узла» А.Первенцева (1947) или патетической неправдой Вс.Вишневского («Незабываемый 1919-й», 1950). Так форсировал, надрывал присущее ему сценическое громкоголосие Николай Охлопков, ставя «Великие дни» Н.Вирты (1947). Ученик Мейерхольда порой распалял свою яркость до такой степе-ни, что язвительный товарищ по профессии бросил определение: «Взбесившийся ландрин». Осатаневшие цветные леденцы.
А Юрий Завадский, незабвенный принц Калаф, который ставит в 1947-м антиамериканский психологический лубок под названием «Русский вопрос»? А само соседство «Дяди Вани» Чехова с «Зеленой улицей» Сурова или «Заговором обреченных» Вирты на мхатовских подмостках? Цинизм проникал в тайник души, в сам источник театрального творчества.
Изменилось до неузнаваемости пространство спектаклей, их внешний облик. На смену ярчайшим сценографам, задававшим в 20-е годы тон мировой театральной живописи, пришли унылые копиисты параллельной реальности. Деградировало и искусство тех, кто формировались в 20-е годы и знали иные времена. Достаточно посмотреть, что произошло с искусством Альтмана, Рындина или Рабиновича.
Огонь старой техники и живой речи сохраняли в театральных «катакомбах». Уволенная из Художественного театра Мария Кнебель спасалась в незаметной норке Центрального детского театра: именно здесь сразу же после смерти Сталина начнется возрождение отечественной сцены, сюда придет ученик Кнебель и Алексея Попова Анатолий Эфрос, фронтовик-драматург Виктор Розов, молодой актер Олег Ефремов, будущий создатель «Современника».