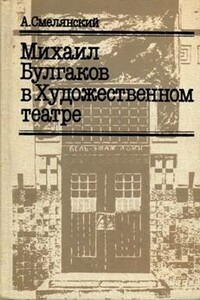Предлагаемые обстоятельства. Из жизни русского театра второй половины XX века | страница 8
Репрессивная волна, обрушившаяся на советский театр после войны, не была случайной. Сталинские идеологи уничтожали возможные последствия победоносной войны с фашизмом. Надо было немедленно вытравить в освободителях Европы независимый и гордый дух, способность к размышлению и даже к веселью. Победителю не дали ни на секунду расслабиться, вернуться в семью, окунуться в частную жизнь. Недаром же проработке подверглись не только Анна Ахматова, Михаил Зощенко или Андрей Платонов, но и так называемый легкий жанр, вроде «Копилки» Лабиша в Театре Советской Армии, «Новелл Маргариты Наваррской» в Малом или «Новогодней ночи» в Театре Вахтангова. Подвергалась испытанию психика художников. Мои старшие друзья в Художественном театре рассказывали, что на репетициях «Зеленой улицы» Сурова, одной из самых бездарных фальшивок, изготовленных на мхатовской сцене в 1948 году, Борис Ливанов, замечательный артист и друг Бориса Пастернака, едва начав репетицию, уже показывал режиссеру Михаилу Кедрову, ученику Станиславского, нарисованный на руке чернилами циферблат часов с застывшими на полдне стрелками и говорил сакраментальное: «Миша, пора!». Это значило, что открыто кафе «Артистическое» напротив МХАТа и надо немедленно принять свою «норму».
Театр, претендовавший на магическое воздействие, сам не мог существовать без наркотиков. Отсюда тотальное героическое пьянство, которое утвердилось тогда во многих крупнейших театрах как некая норма жизни. Это было не только бытовое явление — если хотите, вполне эстетическое. Принять этот образ жизни и существовать в этом театре можно было лишь в состоянии беспробудного оптимизма. Именно в таком состоянии Михаил Романов, крупнейший артист, работавший в Киевском театре имени Леси Украинки (сужу по рассказам Олега Борисова, романовского партнера тех лет), выходил иногда кланяться после «бесконфликтных» спектаклей. Каждый поклон зрителям он сопровождал довольно внятно сказанным: «Извините меня». Это и была последняя форма сопротивления артиста удушению театра.
Настоящий смех, проникающий в запретные зоны, выжигали так же настойчиво, как сентиментальность. Вытравляли любые признаки живой жизни. В Главреперткоме со скрипом проходила пьеса «Ее друзья» Виктора Розова — история слепнущей девочки, которой все помогают совладать с недугом, показалась недопустимо сентиментальной. Эту пьесу надо было бы по всем канонам 1949 года запретить, и тогда Виктор Розов, недавний фронтовик, контуженный, хромой, пошел как на амбразуру: «Да, я страшно сентиментален и стою на этом».