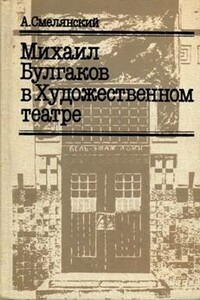Предлагаемые обстоятельства. Из жизни русского театра второй половины XX века | страница 24
Если искать какой-то аналог художественной программы раннего «Современника», то можно сказать, что это был советский вариант неореализма. У нас он питался своей собственной историей, но корни были общие: осмысление итогов второй мировой войны и всех типов фашизма, которыми переболела Россия вместе с Европой. Осмысление не «вообще», а именно с точки зрения массового человека, его проснувшейся совести и здравого смысла. Лямин, герой пьесы Александра Володина «Назначение» (это была программная роль Олега Ефремова), сам себя аттестовал так: «В институте я был рядовой студент, в армии — рядовой солдат. Я трудолюбивый, интеллигентный, любящий свою родину необщественный человек».
На первых порах программа «Современника» строилась на четких противопоставлениях и контрастах. Тут в основном любили «два цвета» (так назывался один из первых спектаклей студии). Они долго искали пьесу для дебюта — и выбрали «Вечно живые» Виктора Розова. Выбрали пьесу, в которой недавняя война с фашизмом была не только местом действия, но и временем всеобщего нравственного выбора. Рассказывая о войне, студийцы сумели рассказать о судьбе своего поколения.
Олег Ефремов не только поставил этот спектакль, но и сыграл в нем Бориса Бороздина, юношу, уходящего добровольцем на фронт. Он оставлял за своей спиной девушку, которая его не дождалась. Он оставлял за спиной друга, который его предал. Каждый выбирал свою дорогу, и этот суровый нравственный императив, который тогда выдвигал театр, относился, конечно, не столько к войне, сколько ко всей той жизни, к которой привыкли люди этой страны. Вот портрет молодого Ефремова в роли Бориса, сделанный по горячим следам премьеры: «Борис — Ефремов, появлявшийся всего лишь в двух недлинных сценах, держал лирическую тему спектакля. И не только становилось бесконечно жаль этого высокого, по-мальчишески тонкого Бориса, с его деликатной застенчивой твердостью, с его изящными и знающими любую работу руками <...> с его чистотой и ответственностью взрослого человека,— думалось и о том, как обеднела жизнь оттого, что выбиты лучшие из этого поколения <...> Они были слишком молоды, чтобы попасть под страшный покос тридцать седьмого года, но они были слишком взрослыми, и слишком резко была запечатлена на всем их духовном облике дата их рождения — 1917 год, чтобы поддаться гипнозу подозрительности и восторга, чтобы утратить самостоятельную совесть и самостоятельную ответственность»