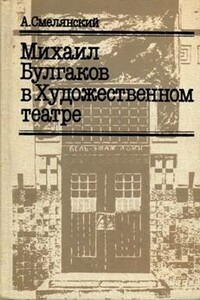Предлагаемые обстоятельства. Из жизни русского театра второй половины XX века | страница 23
В Школе было впитано почти религиозное отношение к Станиславскому. В Школе Ефремов и несколько его друзей дали клятву в верности учению, расписавшись собственной кровью. Это может показаться диким, но это факт, и он во многом объясняет характер поколения. Летом 1952 года, изучая жизнь (вполне по завету Станиславского и по рецептам русской литературы), Ефремов с одним своим приятелем отправился в путешествие по России от Ярославля вниз по Волге до канала Волга — Дон, у врат которого возвышалась семидесятиметровая фигура Сталина. Это хождение вглубь России во многом сформировало представление о своей стране и советском крепостном праве. «Я взглянул окрест себя» — с этого у нас все начинается.
«Современник» обрел лидера, который хорошо знал, что он исповедует и что ненавидит. Социальная программа театра укладывалась в один эпитет — антисталинская. Эстетическая идея была гораздо более расплывчатой и паковалась за неимением своих слов в формулу Станиславского о «жизни человеческого духа». Эту формулу они пытались наполнить взрывчатой силой. Они хотели вернуться к естественному человеку на сцене, к исступленному поиску истины, к актерскому перевоплощению. Они искали те «проникающие» средства воздействия на зрителя, которые были характерны в свое время для Художественного театра, особенно его Первой студии с ее «душевным реализмом», резко сокращенной дистанцией между актером и зрителем, способностью вовлечь зрителя в мощное энергетическое поле. Они первыми рискнули играть «исповед- нически» (одно из ключевых слов этого театрального поколения). Это значило, что за ролью должна была просвечивать человеческая «тема» артиста, и если она была — то и его судьба.
Актерская интонация «Современника» противостояла господствовавшему до этого звуку. Речевой стиль театра его противники тут же окрестили «шептальным реализмом». Между тем с этого «шептального реализма» начинался крупнейший театральный поворот. Язык улицы, живой жизни пришел на эту сцену и породил не только новый тип речи, но и новый тип артиста, которого тогда именовали «типажным», то есть подчеркивали даже его внешнюю слитность с человеком улицы. Любимый актер 40-х годов, господствующий и воспетый официозной критикой, представлял собой явление исключительное. На него надо было смотреть, задрав голову. Из рыхлой корявой народности — отбор. Критик середины 60-х острил: идет такой артист по улице, и не поймешь, артист это или метрдотель. Артисты «Современника» возвращали сцене забытый вкус правды, неотторжимой от поэзии действительности.