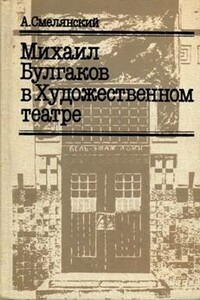Предлагаемые обстоятельства. Из жизни русского театра второй половины XX века | страница 25
Именно Борис — Ефремов произносил в том спектакле фразу, которая стала крылатой и вошла в главный лексикон театрального времени: «Если я честен — я должен».
Отношения этого театра и самого Олега Ефремова с понятием «театральность» были довольно сложными. Они выступили под знаменем «антитеатральности» как новой правды театра (они могли бы повторить на новом витке театральной истории знаменитое признание Станиславского — «в театре я больше всего ненавижу театр»).
Сама природа дарования Ефремова (а его актеры на первых порах до смешного копировали своего лидера) стыдлива. Может быть, это особенность русского таланта вообще. Ефремов избегает резких форм, больше всего дорожит натуральным, сиюсекундным, случайным, вот сейчас рожденным проявлением актера. Когда не видишь никакого режиссерского плана или задания, а перед тобой разворачивается непредсказуемая живая жизнь.
В «Современнике» культивировали театр живого человеческого образа, но этот образ включал в себя и «шутки, свойственные театру». Одним из самых блистательных спектаклей «театрального направления» стал «Голый король», возникший в 1960 году.
Актеры «Современника» сыграли сказку Е. Шварца с отвагой канатоходцев, балансирующих над пропастью. Сказочный колорит не помешал им сохранить сходство министров, королей, официальных поэтов и придворных с совсем не сказочными советскими прототипами. Обвал смеха сопровождал спектакль, его ударные репризы и намеки. Когда Игорь Кваша (он играл Первого министра) «прямо, грубо, по-стариковски» резал Королю «правду-матку» о том, какой он, Король, мудрый и гениальный, то в этом был не только намек на нравы российского партийного двора, но нечто большее. Актер ухватывал тип советского выдвиженца и жополиза, того самого простого, цепкого малого «из низов», который стоял у каждого перед глазами.
В «Голом короле» открылось дарование Евгения Евстигнеева, одного из основных ефремовских спутников по всей его жизни. В сценических созданиях Евстигнеева и в самой его актерской технике свободно соединялись потрясающая житейская узнаваемость с легкой театральной игрой, доходящей иногда до трюка, почти циркового. В пьесе Шварца он впервые предъявил свои уникальные возможности. Играл он Короля-жениха, отказавшись живописать диктатора или тирана. Солнце и средоточие вселенной — в ев- стигнеевском варианте — было полным и абсолютным ничтожеством. Майя Туровская тогда писала: «Очень трудно играть ничто, от которого зависит все»