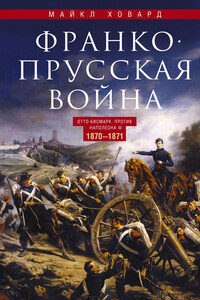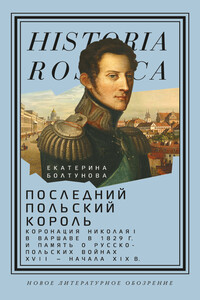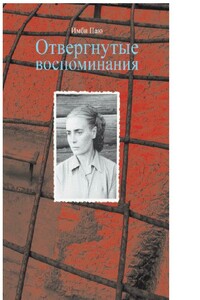Предлагаемые обстоятельства. Из жизни русского театра второй половины XX века | страница 22
Писательница угадала не только природу лидерства Ефремова, но и чреватость его судьбы иными, не театральными возможностями. Послевоенные проходные дворы, арбатская коммуналка или воркутинские лагеря, куда он попал подростком (отец работал там бухгалтером), никак не предвещали карьеру театральную. Чудо случая решило жизнь Ефремова. Приятель по двору Саша Калужский привел его в старомосковский дом своего покойного деда
В.В.Лужского, тут же рядом был и булгаковский дом (Ефремов дружил с булгаковским пасынком Сережей). Саша Калужский уговорил Олега пойти в Школу-студию МХАТ, открытую два года назад, еще во время войны. Ефремов рассказывал: «Мы с Сашей предстали перед лицом Василия Александровича Орлова, который после смерти Сахновско- го был некоторое время ректором школы. Я читал «Как хороши, как свежи были розы». Он посоветовал взять что-ни- будь из Короленко. На экзамене я читал также «Желание славы». Конкурс был тогда колоссальный — 500 человек на место (это весной 45-го). После второго тура ко мне пришли Игорь Дмитриев и Толя Вербицкий — они тогда уже были студентами — и сообщили, что я, кажется, прохожу. Тогда я решил побриться наголо перед третьим туром, надел чужой костюм (достался от расстрелянного родственника) и в этом самом виде (от самолюбия и закомплексованности) заявился на третий тур. В центре сидел Хмелев, тогда худрук МХАТа, а рядом — все ведущие актеры театра. Начал читать, чувствую — колени трясутся. За столом — смех, а я смотрю на Хмелева, которому почему-то невесело. Смотрит исподлобья и изучает меня. И тут голос Вербицкого: «Может быть, вы нас порадуете и прочтете Пушкина?». Именно так витиевато-уничижительно. Ну, тут я и громыхнул: «Желаю славы я». Без всякого понимания, без любви, а просто так, наотмашь: желаю, мол, славы, и все. Представляешь картину: тощий, длинный, наголо бритый, в коротеньких брючках... Когда я вышел в предбанник, за мной выскочил С. Блинников (до этого я успел увидеть его в «Пиквике») и говорит мне: «Не волнуйся, тебя взяли». А потом я подошел к двери — там должен был Саша Калужский читать — и слышу эту фразу (на всю жизнь она в меня засела) — «зрители живо сгрудились вокруг сироты, прижавшегося к забору» — и ничего не понимаю. Текст Сашкин, а голос девичий. Это он так зажался».
Ефремов рассказывает о том, чем был мхатовский лицей для ребят 45-го года: «Каждый из нас как бы примеривался быть одним из тех, кто тогда блистал на мхатовской сцене. Девочки все до одной учились стрелять глазом, так, как это делала Алла Тарасова. Мальчики разбились на две группы — хмелевцы и добронравовцы. Все интересы пересекались на этом театре, ничего другого в жизни не было. Был мир. Свой мир. Подтекста этого мира мы тогда не знали. Нам внушали сверхсерьезное отношение к искусству театра: это трудно вообразить сегодня, но это так».