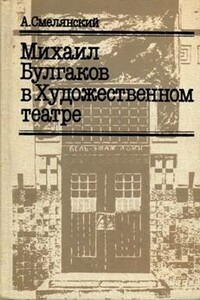Предлагаемые обстоятельства. Из жизни русского театра второй половины XX века | страница 11
Довольно скоро после смерти Сталина в закрытые прежде наглухо железные ворота стали просачиваться первые западные визитеры. Появилась «Комеди Франсэз», потом ТИР с Жаном Виларом и Марией Казарес. Позвали «Берлинер Ансамбль» (вскоре после смерти Бертольта Брехта). Театры начали ставить Артура Миллера и Эдуардо Де Филиппо. В декабре 1955 году тридцатилетний Питер Брук вместе с Полом Скофилдом своим «Гамлетом» перевернули московский театральный мир. Вероятно, это было одно из главных впечатлений тех, кто потом будет определять нашу сцену на протяжении десятилетий.
Приведу выдержки из рецензии Ю.Юзовского, «космополита», который именно в середине 50-х возвратился в живую критику и написал о спектакле Брука. В английском «Гамлете» его поражало свободное отношение к традиции, новое решение пространства, лишенного всякого «правдоподобия». Его удивляла свобода режиссера и актеров, их полное презрение к сценическим штампам — «вместо поющей Офелии с голубиными глазами и русалочьими волосами до пят эта страшненькая фурия, с всклокоченной коротко остриженной головой, в помятом черном платье, с резким голосом, словно нарочно бьющим по нервам — по нервам всех тех, кто жаждет здесь растрогаться»>9. Московский критик пытался понять через первого европейского Гамлета, показанного в России, чем живет современная западная интеллигенция. Он уже многое чувствует, кое-что формулирует, но останавливается перед тем порогом, который отделяет не столько Юзовского от Брука, сколько советское сознание от сознания, так сказать, европейского. Юзовскому не нравится заявление Брука о том, что трагедия Гамлета в неосуществимости возложенной на него задачи. «Гамлет трагически ошибается, думая, что можно совершить убийство, внутренне не изменившись. Подлинный Гамлет знает, что запятнанным он не сможет жить» — так Юзовский пересказывает статью постановщика «Гамлета», напечатанную в буклете. В ответ на это блестящий и «запятнанный» критик, в глазах которого стоят свои примеры и свой нравственный опыт, выдавливает из себя: «Мда... Как бы тут подипломатичнее выразиться,— жидко, жидковато!»>10. И начинает приводить примеры, призванные доказать, что «если враг не сдается, его уничтожают». Юзовский — видный советский «горьковед» — полагал горьковскую формулу>11 универсальной и неопровержимой.
Через несколько месяцев после бруковского «Гамлета» в крамольном альманахе «Литературная Москва» (1956, № 1) появляются «Замечания к переводам из Шекспира» Бориса Пастернака. Этими переводами поэт занимался несколько десятилетий. Это был способ духовного самосохранения, еще один вид экологической ниши, в которой сохранялась русская культура и сама русская речь (невозможность писать свое привела не только Пастернака, но и многих иных писателей к созданию шедевров переводческой литературы, притом что Ахматова сравнивала переводческий труд с поеданием поэтом собственного мозга). В своих заметках Пастернак предлагал новый уровень размышлений о Шекспире и о самих себе, который будет впитан всеми теми, кто тогда начинал новейшую историю российской сцены. Он писал о Гамлете как об «отщепенце», волею случая избранного в судьи своего времени и в слуги более отдаленного. «Когда обнаруживается, что видимость и действительность не сходятся и их разделяет пропасть, несущественно, что напоминание о лживости мира приходит в сверхъестественной форме и что призрак требует от Гамлета мщения»