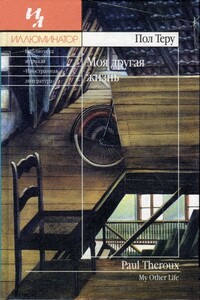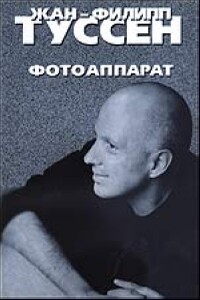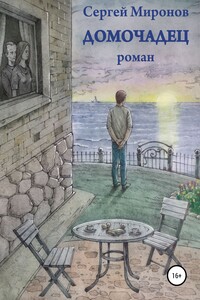Любить | страница 26
Явились носильщики, Мари впустила их, они были одеты в фирменные гостиничные ливреи, черные с золотыми пуговицами, а маленькая черная шапочка на голове делала их похожими на морских пехотинцев. Мари, сама в матросском свитере, словно бы мы плыли в каюте люкс прогулочного теплохода (за раскручивающейся на моих глазах нереальной сценой я наблюдал, все еще лежа в постели), провела их по номеру и показала чемоданы, которые требовалось нести вниз, и те немногие, которые следовало оставить. Носильщики взялись за дело, с кровати я видел, как они с подчеркнутой осторожностью, крадучись, снуют по комнате, всякий раз пропуская слоняющуюся туда-сюда и заполняющую сундучки Мари, как они предвидят траекторию ее перемещений, как бесшумно поднимают коробки и чемоданы, выносят в коридор и складывают на большие золотистые тележки. В конце концов я встал, нетвердой поступью двинулся через комнату навстречу носильщикам, добрался до ванной. Своего лица в зеркале я не узнал, красные распухшие веки, махонькие, едва открывающиеся глазки с выражением удивленным и отсутствующим, ни симпатии в них, ни умиления, а чуть ли не озлобленность, пересохшие, потрескавшиеся губы в коросте, обложенный неворочающийся язык, небритые щеки, жесткие серые и черные волоски там-сям на шее. Я смотрел на это лицо в зеркале, лицо старое и между тем мое: до чего же непривычно применять по отношению к себе слово «старость» или по крайней мере — я ведь еще не старик, через несколько месяцев мне стукнет сорок, — наблюдать, как твоя физиономия со всей очевидностью утрачивает безусловные признаки молодости.