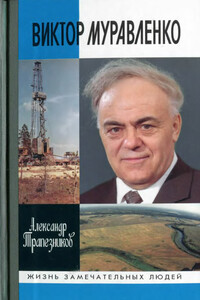Любовь и маска | страница 22
Понятно, что сказано это было уже после переворота 17-го (затем повторялось неоднократно), в январе следующего года (по старому летосчислению). Любочке исполнилось шестнадцать — была она на три года моложе своей сестры и, как указывала спустя тридцать лет в своей машинописной автобиографии, родилась в 1902 году в семье служащего какого-то учетного ведомства, «после революции перешедшего на работу в РКА» — слева на полях против этих и без того более чем скупых строк имеется пометка: «Надо ли?»
Надо ли объяснять, в какое время это писалось? Что пятнадцать лет жизни, стоящие за этой сделанной рукой Орловой пометкой, могли бы потребовать слишком громоздких и неудобосказуемых сносок и комментариев? Что Петр Федорович совсем не сразу перешел на работу в РКА, а жил какое-то время с семьей в имении Сватово, собственно уже переставшем быть имением, а превратившемся во что-то вроде запущенной подмосковной дачи, в место спасения от городской смуты. В какой бы растерянности ни пребывал этот человек, каждое утро его видели в роскошной шелковой куртке с золотыми кистями, подтянутого, улыбчивого, «в одеколоне», пытавшегося не относиться всерьез к чему бы то ни было — невнятице времени, недоеданию, нервозности Евгении Николаевны, к тому, что дочери, вынужденные забросить музыку, превращались в молочниц — сватовские коровы, спасшие семью от голодных обмороков, в конечном счете и определили судьбу старшей, Нонны.
По утрам, залив бидоны молоком, сестры отправлялись в город, благо Сватово располагалось совсем недалеко от Москвы. От тяжести бидонов суставы краснели, распухали — у Любочки это осталось на всю жизнь; и с того времени руки Орловой всегда выглядели старше ее самой — она не любила их, прятала, — у вас нет ни единого шанса разглядеть их в кадре.
На Божедомке, там, где теперь находится Театр армии (чью форму пятиконечной звезды способны оценить разве что небеса, а смертным пешеходам он предстает в виде абсурдного нагромождения каких-то выступов, балкончиков и колонн), располагались крохотные деревянные переулки. Несколько живших в этом районе семей и были клиентами сватовских молочниц.
Сестры Орловы несли молоко в Орловский тупик — в этом было что-то назойливо символическое, «говорящее»; тем не менее такой тупик действительно значился на картах тогдашней Москвы.
В тупике находился дом известного в то время краснодеревщика Веселова — мрачноватого вздорного человека, со всем своим многочисленным семейством еще кое-как удерживающегося на плаву относительного благополучия. Один из его сыновей — Сергей, во многом перенявший характер отца, — готовился к приходу молочниц особенно тщательно. Высокий и несколько угрюмый красавец, менее всего интересовавшийся ремеслом отца, он с разрешения сурового родителя в один из дней предложил сестрам чаю; в другой раз чай как-то незаметно слился с незамысловатым обедом; было очень тихо, чинно и неуютно. А через какое-то время, придав своему лицу драматическое выражение, Сергей буквально на несколько минут задержался возле лестницы с Нонной — худенькой, трепетной Нонной, которая так выгодно Отличалась от полноватой и, в общем, довольно простенькой на вид Любочки, ждавшей ее во дворе, на теплом апрельском ветру.