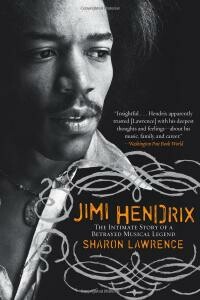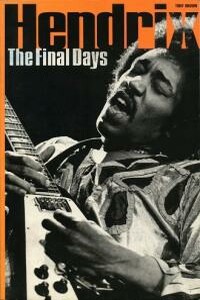Любовь и маска | страница 21
Письмо маленькой московской родственницы было не из этого сорта и начиналось вполне традиционно.
Люба Орлова… Любочка. Любопытно, сразу ли вспомнил Толстой, о ком идет речь?..
Через некоторое время младшая из сестер Орловых получила книжку «Кавказский пленник» с дарственной надписью: «Любочке Л. Толстой».
Почти вздорная мысль: почему все же это была не старшая, не Нонна, ведь она тоже, что называется, «подавала надежды», играла на скрипке и уж наверняка прочла к тому времени толстовские сказки. Бывшая на три года старше, не решилась вовремя выразить восхищение или же вообще это было не в ее характере? Она все время не совпадала, оставалась в стороне. Замкнутость, безразличие к положению на виду или просто положение старшей сестры как-то негласно, неназываемо оставляло ее в тени лучистого обаяния младшей?
Две девочки: тоненькая, темная «раевская» Нонна и крепенькая, в орловскую породу, Любочка.
Две сестры. Две судьбы — как два варианта одной жизни.
Обычное перекрестье: внешне ни на кого не похожая, Нонна обладала мягкостью и уступчивостью Петра Федоровича.
Люба, взяв от отца орловскую стать и голубые глаза, унаследовала хватку матери и ее небольшой рост.
Было в ней какое-то лобастое упорство.
Судьба, словно в предвидении этих воплощений, проводила подготовительную работу. Она проводила ее руками отца (в буквальном и переносном смысле) — владельца трех имений, перешедших к нему по строгановской ветви рода.
Как иные бывают подвержены запоям, загулам и другим приятным жизненным встряскам, Петр Федорович с азартом, равноценным его артистизму, играл в карты.
Он был честный игрок, но он был неудачливый игрок.
Однажды он явился домой, держась ровно и прямо, с рассеянно-безумной улыбкой на губах. Евгения Николаевна, хорошо понимавшая, что это могло значить, заперлась у себя и не выходила до середины следующего дня.
Вечером, тоном, каким признаются в святотатствах или прелюбодеяниях, он сообщил ей, что проиграл последнее из трех принадлежавших ему имений, что жизнь — вздор, и почему бы по этому случаю не выпить чаю и не сесть за рояль, — ему весь день напевалось это апухтинское: «Молчи, грусть, молчи»…
Маленькое лицо Евгении Николаевны окаменело, потом губы ее затряслись, а на следующий день, тщательно напудренная, она уже сидела за роялем, со снисходительным обожанием взглядывая на неудачливого игрока.
— Вот видишь, Женечка, — говорил Петр Федорович, одной фразой распахивая дверь новой эпохи, — хорошо все же, что я успел проиграть эти злосчастные имения, которые у нас теперь все равно бы отобрали!