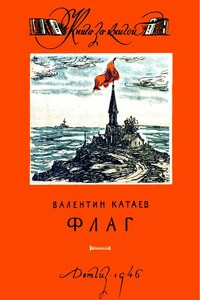Трава забвенья | страница 52
Не могу сказать, чтобы мне тогда понравились "Двенадцать". Они во многом отталкивали меня, как, впрочем, всегда сначала отталкивает новая, небывалая в литературе, совершенно оригинальная форма, без которой невозможно новое содержание, тем более если этим содержанием является революция.
До революции я еще тогда не дозрел.
Но уже и тогда "Двенадцать" потрясли меня своей неслыханной живописью достоверной, точной, вещественной, не реалистической, а материалистической, ни на какую другую не похожей.
Черный вечер. Белый снег. Сверху снежок. Под ним - ледок. Падающая баба - и, бац, растянулась. Огни, огни, огни. Оплечь - ружейные ремни. Электрический фонарик на оглобельке. Рвет, мнет и носит большой плакат: "Вся власть Учредительному собранию". "Шоколад "Миньон" жрала! Не видать в снегу друг друга за четыре за шага..."
О, эти четыре шага! Не два, не три, а именно четыре. Как они - эти четыре роковые шага - ранили воображение не одного поэта. Как трудно было от них избавиться.
Я уже не говорю о гениальных строчках: "...нежной поступью надвьюжной, снежной россыпью жемчужной", - быть может, лучших во всей мировой поэзии.
Что же касается "Скифов", то я их признавал полностью, не только восхищаясь ими, но испытывая нечто вроде подлинного священного ужаса при чтении этих пророческих тяжеловесных ямбов, сохранивших власть над моей душой и над моим воображением до сегодняшних дней.
Все было в них согласно с моим тогдашним представлением о судьбах России, все находило во мне отзвук.
..."И дар божественных видений... и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений".
* * *
В особенности дар божественных видений.
Меня нисколько не пугало, что "перед Европою пригожей... мы обернемся к вам своею азиатской рожей", не коробила "варварская лира" и все резкости этой необыкновенной евразийской поэмы, открывшей для меня целый мир пробуждающегося Востока.
Ведь я был солдат, настоящий фронтовик, и меня было трудно чем-нибудь запугать, в особенности революцией. Солдаты любили революцию. Она была для них желанным избавлением от войны. В этом было мое преимущество перед Буниным, который до ужаса боялся и ненавидел солдат и матросов, совершавших величайшую в истории человечества Октябрьскую революцию; они все казались ему на одно лицо: тупые, жестокие, озверевшие от крови, разнузданные, не революционеры, а бунтовщики, погубители России.
Я же, проживший вместе с ними на войне почти два года, вместе с ними искавший и кормивший вшей, евший и учивший некоторых из них грамоте и даже читавший им в мокрой землянке под Сморгонью во время передышек между боями Гоголя и Толстого - чуть ли даже не "Анну Каренину", которая им, кстати, очень нравилась, - лежавший вместе с ними то раненый, то отравленный газами в полевых лазаретах на гнилой соломе, знавший все их самые сокровенные крестьянские, совершенно справедливые, мечты о земле, о свободе, о всеобщем мире, о свержении ненавистного дома Романовых, об уничтожении помещиков, кулаков и капиталистов, о грядущей революции и вполне сочувствующий этим мечтам, хотя они и не имели к моей личной судьбе прямого отношения, - как мне тогда казалось! - я совсем не боялся этих людей - вовсе не жестоких и вовсе не кровожадных, а простых, добрых, хороших и справедливых русских крестьян и рабочих, измученных и доведенных до крайности преступной войной и вековой несправедливостью.