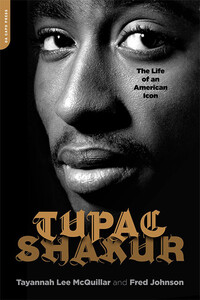Забытый фашизм: Ионеско, Элиаде, Чоран | страница 46
Итак, Элиаде выступал приверженцем аскетической риторики, что соответствовало его индийским интересам. У Чорана обнаруживалось не менее явное влечение к спасительному страданию, разрушающему «я». Несомненно, именно в его творчестве тема «откровений горя», одиночества и ночи носит наиболее апокалиптический характер. В книге «На вершинах отчаяния», написанной в 1932—1933 годах, он высказывался в пользу «преобразования в ничто»; в бессонные ночи он исследовал этот процесс, видя в нем наиболее доступный способ уничтожения иллюзий, на которых основывался сюжет[101]. Более того, во всех его предфашистских работах начала 30-х годов этот мотив созидающего страдания сочетался с яростным отрицанием тирании пустых форм, абстрактных категорий, логических изысков. Представление о его состоянии духа дают названия таких его статей, как «Иррациональность в жизни», «Пессимистические перспективы истории», «О кризисных состояниях», «Совесть и жизнь», «Между духовным и политическим», «Слишком много света!», «Вера и отчаяние», «Драмы существований», «Похвала пылким людям»[102].
Поразительно трезвым взглядом смотрел на эту ницшеанско-романтическую смесь Ионеско. Он упрекал «отчаявшихся типа Эмила Чорана» в том, что они любуются своей разочарованностью, не замечая, что их сверхчеловек — смешной корнелевский герой. Совесть мучила Ионеско в неменьшей степени. Но он не любил своего отчаяния. Он отказывался стать фанатиком страдания. Идея коллективного искупления приводила его в ужас. Эти различия имеют важное значение, поскольку позволяют лучше уяснить вклад драматурга в формирование идеологии Молодого поколения, оценить, до какой степени он ее разделял, и, следовательно, понять причины, по которым будущие политические ориентиры его соратников остались ему чужды. Объяснения можно найти в более поздней его работе, написанной в 1936 г. «Это было время, — писал Ионеско, — когда объективные исследования, как нам казалось, навсегда утратили значение; когда все индивидуумы жадно стремились жить и творить; это была настоящая лавина гипертрофированных «я», сиюминутных экспериментов, желаний «жить, несмотря ни на что». Момент, когда внимание акцентировалось на наших глубоко личных несчастьях; момент безнадежности, потока, субъективности; это была победа подростков, победа эгоцентризмов, победа всех личных вещей, стремившихся стать доминирующими; победа недисциплинированности, витализма. Публиковали свои личные дневники... И даже автор этих строк, бывший подростком, покидающим свое отрочество в беспорядочном бегстве, с радостью и гордостью пережил эту экзальтацию индивидуальностей»