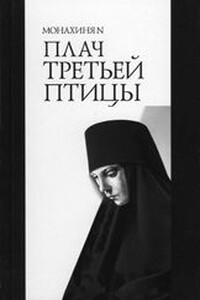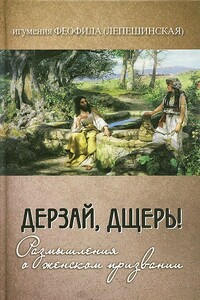Рифмуется с радостью | страница 85
С. Моэм предпосылает своей книге декларацию, отмеченную типично британской спесью: «У меня нет ни малейшего желания обнажать свою душу, и я не намерен вступать с читателем в слишком интимные отношения; есть вещи, которые я предпочитаю держать про себя». В итоге получилось нечто холодновато-циничное, похожее на пособие по изучению творчества Моэма, составленное им самим и полезное лишь литературным критикам.
А.И. Герцен (1812 – 1870) сообщает читателю примерно те же намерения: «Дополните сами, чего недостает, догадайтесь сердцем – а я буду говорить о наружной стороне, об обстановке, редко, редко касаясь намеком или словом заповедных тайн своих» («Былое и думы»). Однако, совсем наоборот, в его воспоминаниях непомерно много места заняли интимнейшие подробности семейной жизни, с цитированием очень личных писем жены и тщательным препарированием собственных душевных состояний.
А вот дневник А.В. Никитенко (1804 – 1877) предельно аскетичен; известный литератор, цензор, профессор, действительный член Академии наук оставил три тома бесценных воспоминаний и дневников с характеристиками видных сановников, министров, членов императорской фамилии, царедворцев, писателей и ученых, которых он знал лично. И почти ни слова не сказал Александр Васильевич о себе, своей семье, детях, так, мимоходом: «уже месяц, как я женат», и всё, ни имени ее, ни перипетий ухаживания не сообщается, и в дальнейшем о ней ни словечка; он выступает как свидетель эпохи, рассказывая исключительно об общественных событиях, которые он, видимо, полагал важными для читателя. Целая эпоха открывается в этих записках со стороны, не известной учебникам: автор запросто встречался с Пушкиным, Вяземским, Тютчевым, Гончаровым; знакомые исторические факты предстают фоном становления личности, развития души, мучений совести; т.е. именно лабиринты личной жизни увлекательны и поучительны для всех. Так что вторая польза от чтения мемуаров – в общении со старшим, прошедшим минное поле жизни, на которое тебе предстоит ступить.
Конечно, высокая степень откровенности привлекает читателя, хотя иного смакование физиологических подробностей смутит и оттолкнет: поразительно, к примеру, насколько описанная в последней книге реальная жизнь Ж. Сименона (1903 – 1989), пронизанная культом наслаждения, роскоши, славы, успеха, противоречит духу его целомудренных «социально-психологических» романов о комиссаре Мегрэ. Девиз «понимать и не судить», с которым он подходил к своим литературным героям, писатель, похоже, распространял и на себя, считая собственные страсти и поступки, порой безответственные и губительные для других, всего лишь «маленькими слабостями».