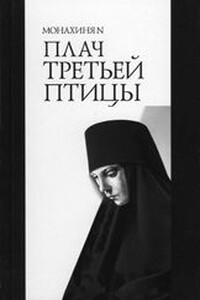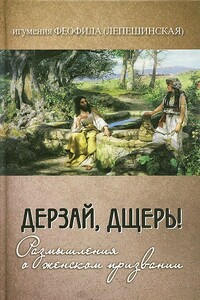Рифмуется с радостью | страница 86
Однако насколько тусклыми и самоупоенными кажутся мемуары зарубежных деятелей в сравнении с биографиями наших соотечественников, судьбы которых безжалостно перемолола российская история ХХ века. Рожденные в XIX веке пережили кровавую смену социального строя; К.А. Коровин (1861 – 1939) начал писать в 68 лет в Париже, когда был болен, лежал в постели, живописью заниматься не мог, к тому же страдал от одиночества, жил в нужде и скорбях, тосковал по России. Так появились замечательные автобиографические заметки, записки о путешествиях, очерки о Чехове, С. Мамонтове, Ф. Шаляпине и собратьях-художниках: В. Перове, И. Репине, А. Саврасове, В. Поленове, И. Левитане, М. Врубеле, В. Серове. Сам художник называл свои литературные произведения «рассказами о любви к людям»: изображая живые, яркие, красочные, «со всячинкой», характеры, автор стремился к максимальной правде, в то же время «никого не осуждая» и проповедуя нравственную чистоту, верность и справедливость.
М.М. Пришвин, глубоко страдая, уходил от «отвращения к Октябрю» в природу, в леса, к ароматному лугу, усеянному цветами, и видел призвание писателя в том, чтобы своими книгами украсить путь несчастных, чтобы они забыли тяжесть своего креста. Можно только догадываться, насколько иными и одинокими ощущали себя люди, рожденные в XIX веке, среди людей новых поколений, воспитанных в профанированной образовательной системе большевизма. Вероятно, ту же отстраненность чувствуют теперешние старики рядом с молодежью, выросшей в упрощенной донельзя атмосфере перестройки.
В самые первые годы после революции образовался зияющий разрыв между удушливо тяжелым советским бытом, с голодом, холодом, грязью, бездомностью, неустройством, пронизывающим страхом, грабительскими обысками, издевательскими допросами, застенками, кровью – и напряженным, героическим бытием тех, кто, сохранив истинно ценное, чего нельзя отобрать, украсть, реквизировать, продолжал мыслить, писать, творить и созидать бессмертную душу; этот разрыв в более или менее болезненной форме сохранялся вплоть до падения «коммунизма».
В опубликованных сейчас записках и дневниках встречаются жесткие самооценки, горестные признания, пронзительные, полные покаянной боли строки: «Пора уже привыкнуть к бесполезности сопротивления… чужая воля владеет тобой, и ты не смеешь негодовать, возмущаться, прекословить… это чувство уже в чем-то болезненно изменяло меня… я стану другим, менее свободным, более осторожным, осмотрительным, недоверчивым, воочию убедившись, что нельзя пройти через стену», – признавался В. Каверин. «Я никого не предал, не клеветал – но ведь это значок второй степени, и только», – записал в дневнике Е. Шварц.