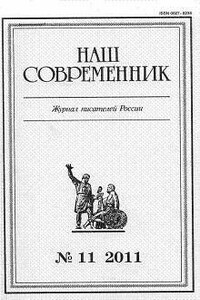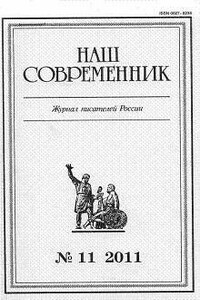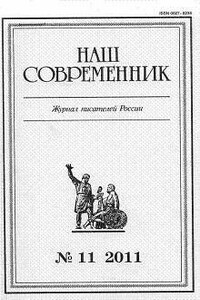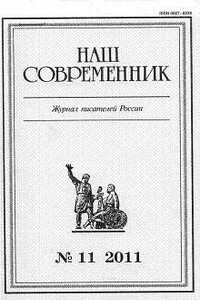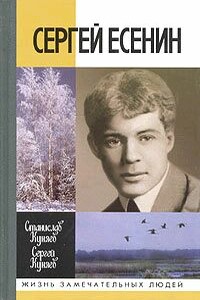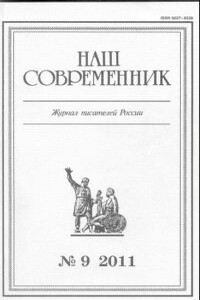«Ты, жгучий отпрыск Аввакума...» (глава 27) | страница 9
Слух о происшедшем мгновенно разлетелся по Ленинграду. В «Англетере» появились Борис Лавренёв, Михаил Фроман, Николай Браун, Николай Никитин, Павел Медведев, Всеволод Рождественский, Михаил Слонимский, Иннокентий Оксёнов… Вольф Эрлих сидел посреди номера с хозяйским видом… Вид же лежащего на кушетке Есенина был страшен. Жуткий багровый шрам на переносице сам по себе вызывал вопросы, но все они были тут же отметены одним объяснением: прижался, дескать, лицом к горячей трубе… На дворе — метель, а трубы холодные, и составитель протокола кутался в шинель… Если кто потом и обратил внимание на это противоречие, то мог задать леденящий душу вопрос лишь самому себе.
Браун и Лавренёв, переглянувшись, отказались подписывать протокол. Его подписали Медведев, Эрлих, Фроман и Рождественский. Когда Николай Браун потом спросил Рождественского: «Сева, как ты мог?.. Ты же не видел, как Есенин петлю на себя надевал», — тот ничтоже сумняшеся ответил: «Ну, а как?!. Мне сказали, нужна ещё одна подпись! Я и подписал!»
Ни к Медведеву, ни к Эрлиху, ни к Фроману подобных вопросов ни у Брауна, ни у Лавренёва не было. В ленинградских литературных кругах, очевидно, было хорошо известно сотрудничество названных литераторов с ГПУ — и ничего лишнего у них никто не спрашивал.
Медведев, первым из писателей вызванный Эрлихом в «Англетер», и обзванивал потом своих коллег с извещением о «самоубийстве Есенина» — задолго до прекращения всякого дознания, до медицинской экспертизы, до составления всех протоколов. И так всё ясно! Чего темнить?
Он же с этой новостью заявился к Клюеву, когда тело Есенина уже было отправлено в мертвецкую Обуховской больницы.
Николай слушал спокойно. Держал себя в руках. Только произнёс: «Этого и нужно было ждать».
Вынул из комода свечу, зажёг её у божницы, перекрестился широко и стал читать молитву за упокой души раба Божьего Сергия.
Помолился — и слёзы градом хлынули из его глаз.
— Я говорил Серёженьке и писал к нему: брось эту жизнь. Собакой у порога твоего лягу. Ветру не дам на тебя дохнуть. Рабом твоим буду. Не поверил — зависть, мол, к литературной славе. Я обещал ему 10 лет не брать пера в руки. Не поверил — обманываю. А слава вот к чему приводит…
В его глазах Есенин давно покончил с собой. Когда изменил себе, связался с «Москвой кабацкой», со славой бумажной, с известностью у всякого люда без разбора… И «Англетер» — лишь естественное завершение этой безбожной жизни…