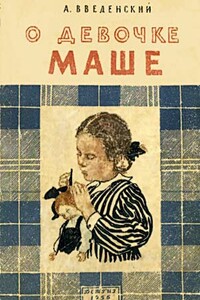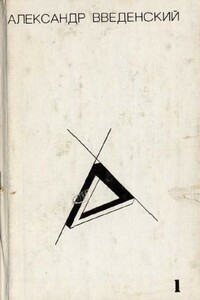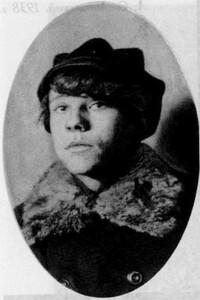Том 2. Произведения 1938–1941 | страница 70
Первые репетиции проходили на квартирах, главным образом у Бахтерева и Введенского. Довольно скоро, однако, возникла необходимость в настоящем помещении. Вопрос этот обсуждался, когда все собрались в очередной раз у Бахтерева. Введенский взялся организовать связь с Инхуком. Тут же на пятисотрублевой николаевской ассигнации постановщик написал заявление Малевичу, в котором говорилось, что он собрал группу и хочет поставить сценический эксперимент с целью установить, что такое театр. Заявление было завязано в «старушечий узелок», позвонили Малевичу и сейчас же к нему отправились. План Малевичу поправился, он сказал: «Я старый безобразник, вы молодые, — посмотрим, что получится». Заявление понравилось ему еще больше, он тут же написал на нем резолюцию коменданту, и «Радикс» получил в свое распоряжение Белый зал Ипхука и много подсобных помещений. На третий день после начала репетиций Малевич попросил представить план работы; план был им одобрен. Вскоре он уехал в Варшаву, где выполнял какой-то заказ, и «Радикс» распространился чуть ли не по всему институту.
Очередная трудность настигла «Радикс» с началом холодов, поскольку дров в Инхуке не было. Более серьезная, однако, трудность, которой преодолеть уже не удалось, возникла, когда работа зашла настолько далеко, что встала проблема поисков материальной базы для реализации спектакля. По поводу возможного его осуществления на государственной основе постановщик говорил с директором учебной части Института истории искусств Адрианом Пиотровским и с заведующим театральным отделом «Красной газеты» Борисом Мазиным. Этот путь был, однако, чересчур долгим — он требовал до полутора лет. Оставалось искать выход в налаживании связи с каким-нибудь коммерческим театром. Переговоры велись со Свободным театром, который через месяц или полтора мог бы предоставить свое помещение (нынешний кинотеатр «Титан») для часового спектакля. Для этого необходимо было иметь полностью написанный текст пьесы, а именно это и оказалось неосуществимым. Постановщику не нравились прозаические переходы Введенского и Хармса между стихотворными кусками; чтобы завершить пьесу, он предлагал, чтобы их написал Константин Вагинов. Когда же не получилось и это, он предложил Введенскому и Хармсу работу прекратить.
Сейчас, оглядываясь далеко назад, можно сказать, что талант молодых актеров и профессионализм исполнителей были таковы, что если бы спектакль состоялся, он был бы несомненно интересным. Актеры были приглашены из студии Фореггера «Мастфора» (мастерская Фореггера) и из «Стумазнда» (студия массовых зрелищ и демонстраций), которой заведовал Клементий Минц. Все держалось на энтузиазме участников, — в «Красной газете» появилась об этом заметка «Чем бы дитя не тешилось…». Удавалось привлекать и «знаменитостей», — среди них известного Антонио, который высвистывал Блюз Онеггера, однако со своеобразным «русским колоритом», заставляющим теперь вспомнить «Мавру» Стравинского; как только принесли ноты, он стал тут же, с листа, высвистывать свою партию. Хармс, который был вообще очень музыкален, говорил, что хотел бы соединить Онеггера с «настоящим гвардейским барабаном». В результате Онеггер был сведен к партии рояля в аккомпанементе к русской, цыганской даже, польке (в духе Соколовского), образующей странную с Онеггером гармонию. Музыку композиторов французской «шестерки» подбирал и исполнял Друскин. О «танцовщице-каучук» Зине Бородиной уже было сказано в связи с любовной линией пьесы. Оформление делал Бахтерев, в частности, «романтическую» декорацию, изображающую «мост через Санкт-Петербург», уходящий куда-то в небытие. На заднике был изображен клодтовский конь; синхронно с восклицанием одного из актеров переворачивался купол Исаакиевского собора. Занавес был разрисован человеческими глазами, как это было у Введенского в комнате, где глазами разрисованы были стены, а вместо люстры висел семейный портрет…