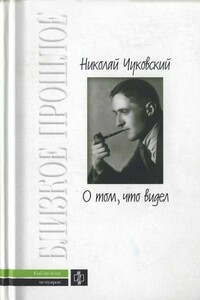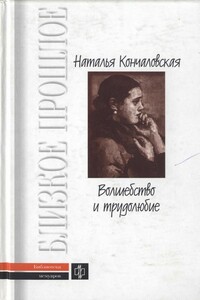Жизнь на восточном ветру. Между Петербургом и Мюнхеном | страница 123
На учредительное собрание в издательство явилась вся культурная элита Мюнхена. Идея вызвала всеобщий энтузиазм, потому что у «Нового обозрения» к тому времени сложился уже свой сплоченный круг сотрудников, а в «Гиперионе» — так должен был называться наш журнал — намечалось южнонемецкое доминирование. Оформление нового журнала предполагалось осуществить как напоминание о незабвенном «Пане» — живопись и литература должны были на равных свидетельствовать о современном состоянии искусства. Для господина фон Вебера все это было нечаянной радостью, ибо его издательство внезапно становилось одним из самых примечательных.
Блей шепнул мне на ухо, что в первом же номере напечатает десять моих сонетов и что если я понравлюсь Штернхайму, то смогу занять пост секретаря редакции.
Для меня это стало бы великолепной возможностью роста, ибо материальное состояние мое испытывало кризис — как результат моих фантастических трат, для меня непомерных. Мне было понятно, что надо было что-то делать. И хотя за Гутенегом еще числился некий должок, напоминать о нем мне было неловко после того, как я каждый день являлся к нему на ланч.
Однажды перед моей дверью неожиданно предстал Эрнст Ровольт, переехавший в Мюнхен, так как нанялся на работу в старинный («придворный») книжный магазин Аккермана на Максимилианштрассе рядом с отелем «Четыре времени года». Я был рад видеть этого общительного и умного коллегу (он был на год моложе меня) и немедленно познакомил его с моими друзьями; правда, с Гутенегом отношения у него не заладились, зато с Блеем они быстро нашли общий язык.
С Гутенегом бывало непросто. Он пил, как и все мы, сверх меры и тогда бывал грубоват и падок на ссоры. Между нами тоже случались расхождения, особенно в вопросах эстетики, где я не менее его был упрям в отстаивании своих ортодоксальных взглядов и нежелании идти на компромиссы. Но эти мелкие стычки составляли, так сказать, черный хлеб нашей жизни, которую они делали только слаще. Франц Блей находил свое удовольствие в наших спорах.
Роль красавицы Эльки оставалась при этом двусмысленной. Гутенег был уверен, что я не стану наставлять ему рога, и поручил мне роль чуть ли не хранителя добродетели его красивой кошки; роль, вообще-то мне мало приятную, но я невольно согласился на нее из чувства, может быть, ложного товарищества. Когда он уезжал, я должен был приглядывать за ней, что ей, вероятно, не нравилось. Чтобы избавиться от этой опеки, она даже попыталась свести меня с одной своей подругой, прелестной актрисой: однажды у меня на Рёмерштрассе возникла вдруг красивая девица с письмом от Отто и Эльки, в котором говорилось, что у этой их подруги нет пристанища в Мюнхене и что я наверняка смогу предоставить ей угол.