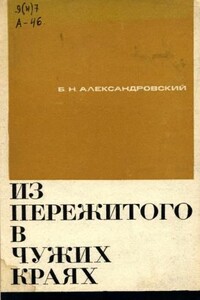Из пережитого в чужих краях. Воспоминания и думы бывшего эмигранта | страница 60
Часть фабрик и заводов закрылась. Торговые предприятия лопались одно за другим. Приток туристов, давший Франции в 1926 году 2 миллиарда долларов, прекратился. Русских эмигрантов, работавших на заводах, — шахтах и других частных предприятиях, выкинули за борт первыми.
Но все же за 1923–1927 годы во Францию переехало с Балкан несколько десятков тысяч эмигрантов.
Лозунг «Лицом к Европе!» временно давал им надежду и иллюзию некоторого приобщения к «настоящей европейской жизни» вместо «прозябания в какой-то деревне», как они часто называли страны Балканского полуострова. Но чувства их к Франции были довольно смутными и во всяком случае далекими от восторга.
Психологический «климат» во Франции для русских эмигрантов был совершенно иной, не имевший ничего общего с тем отношением, какое они встретили в 1921 году в Болгарии.
На этом «климате» стоит остановиться подробнее. Начинать опять приходится издалека.
Первую мировую войну русское интеллигентное общество, за исключением истинно революционной его части, относившейся к войне непримиримо, встретило с сознанием каких-то сверхвысоких и благородных целей, какие эта война якобы преследовала. Тут были и самые теплые чувства к обиженной Австрией «младшей славянской сестре» — Сербии, и освобождение из-под ига габсбургской монархии западных и южных славян, и религиозный фанатизм под лозунгом «Крест на святую Софию!», и политический лозунг «Константинополь и проливы!».
Сверх всего этого ненависть к прусской военщине, преклонение перед страданиями раздавленной Бельгии, восхищение так называемыми «демократическими свободами» союзных парламентарных государств и многое другое.
Словом, кажется, было все, кроме самого главного — понимания настоящих причин, вызвавших эту бессмысленную бойню, обошедшуюся Европе в 10 миллионов человеческих жизней.
Истинной физиономии империализма никто, кроме просвещенных в вопросах социологии одиночек, разглядеть не смог. На западноевропейских союзников это общество смотрело с благоговением и восторгом. Отношение его к ним было проникнуто духом рыцарской верности. В своем маниловском прекраснодушии оно верило во взаимность этих чувств.
Но это длилось недолго.
В 1916–1918 годах я в качестве младшего врача одного из пехотных полков русской армии, занимавшего участок фронта в лесах и болотах Полесья, был свидетелем того, как в этом созданном фантазией здании рыцарского служения союзникам появились глубокие трещины.