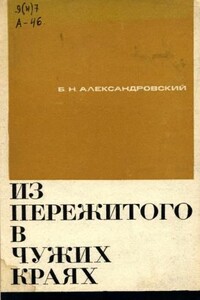Из пережитого в чужих краях. Воспоминания и думы бывшего эмигранта | страница 61
Фронтовое офицерство, как и все русское интеллигентное общество, не могло не видеть, что, в то время как русские армии, плохо вооруженные и истекающие кровью, устилали своими трупами грандиозные пространства в ходе военных операций, предпринятых с целью облегчения положения западных союзников, эти союзники, развернувшие к 1916 году всю свою военно-техническую мощь, не спешили облегчить положение своего великого союзника на Востоке, когда ему приходилось туго.
На Востоке: сводки о грандиозных наступательных операциях, о взятых городах, о занятых обширных территориях или же, наоборот, об отступлении истекающих кровью, почти безоружных армий и об оставленных городах, уездах, губерниях.
На Западе: «Нами взят домик паромщика…» или: «Нами оставлен домик паромщика…» Шила в мешке не утаишь. Нельзя было утаить и того, что русское интеллигентное общество раньше не знало психологии правящих классов и военного командования западных партнеров по союзу, именовавшемуся Entente cordiale (Сердечное согласие).
А психология эта в данном вопросе была необыкновенно проста: «Воевать до последней капли крови… русского солдата!» Свои же союзнические обязательства выполнять весьма своеобразным способом: продавать этому союзнику пушки, пулеметы и винтовки, в которых он так нуждается; взимать за них плату золотом; извлечь прибылей от этой продажи не 20 и не 30 процентов, как в мирное время, а 100, 200 и более.
Не правда ли, неплохо?
Вот почему к концу первой мировой войны определенная часть русской общественности говорила об Англии, Франции, Бельгии, Италии и США тоном нескрываемого раздражения и злой иронии: — Не союзники, а «союзнички»!..
С этим раздражением и неприязнью и вступило во Францию после первой мировой войны большинство русских эмигрантов. Последующие годы еще более усугубили эти чувства. По каким причинам — об этом будет сказано в одной из последующих глав.
VII
Политическая деятельность эмиграции
К середине 20-х годов «русский Париж» как политический центр русской послереволюционной эмиграции полностью сформировался. Но прежде чем говорить о политической деятельности этой эмиграции, необходимо сказать несколько слов о том, что следует понимать под термином «русская эмиграция», так как в этом понятии, казалось бы простом, допускались и допускаются некоторые неточности.
Первая неточность заключается в том, что вся проживавшая за рубежом масса русских отождествляется с «эмиграцией» в узком смысле слова. В понятие «эмигранты» нельзя, например, включать русских — постоянных жителей государств и областей, отколовшихся от Российской империи после революции. Далее, нельзя назвать эмигрантами русских военнопленных 1914–1917 годов, а также офицеров и солдат бригад, посланных царским правительством в 1915 году на помощь Франции и по каким-либо причинам застрявших за границей (за исключением тех, кто не пожелал вернуться на родину из политических соображений). Не принадлежат к эмигрантам и те лица, которые выехали за границу до революции по делам личным, семейным, торговым, имущественным и т. д. и которые застряли там в силу тех же обстоятельств.