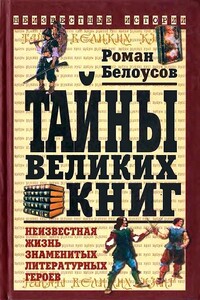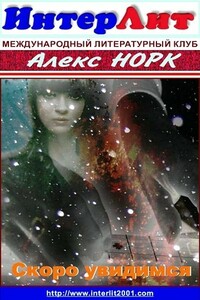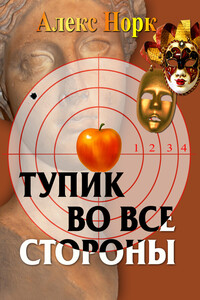Листая страшные страницы | страница 57
Историки очень любят подчеркивать, что их наука не признает слова «если». Дескать, что было, то было. И ничего потом не переиграешь. Это наивное и поверхностное суждение.
Во-первых, уже потому, что сами историки слишком часто прошлое фальсифицируют и извращают, придавая ему тот «полезный» смысл, который нужно вложить в умы живущего поколения. Следовательно, то, чего не было — но могло бы быть, считается не менее важным случившегося в действительности.
Во-вторых, любой исторический опыт тем только и интересен, что относится к фактам лишь как к возможностям и открывает причины к ним поведшие или не поведшие. Причины же составляют то самое главное, что требуется изучать.
В-третьих, история как простой набор фактов не только не позволяет ответить на вопрос — что зависит от человека, а что от него не зависит, но даже не позволяет поставить такой вопрос. Иное дело, когда устанавливается вполне полноценный спектр возможностей с пониманием идущих от них альтернативных исторических траекторий. Тогда речь может идти уже не о фактах, а о том, кого «другая» история могла устраивать или не устраивать. И только таким путем могут быть обнаружены соответствующие исторические интересы и силы.
Проведем одну аналогию.
В Европе в XV–XVII веках был популярен прием шифровки в картинах общеизвестных фигур или знаков. При тонком исполнении вы никогда не увидите их, пока не подскажут, в какой именно части картины и что именно нужно искать. Тогда сокрытое вдруг неожиданно и ясно обнаруживается.
То же самое происходит и с историей «в сослагательном наклонении». Она указывает закрытые раньше куски полотна, в которых внимательному взгляду вдруг удается что-то заметить. И иногда там проглядывает такая рожа, что, выражаясь языком Гоголя, только плюнешь и перекрестишься.
Глава XIV. Что скрыли от Аракчеева
Итак, «иностранец» предупредил Аракчеева об одной опасности, но скрыл информацию о другой. Значит силы, которые за ним стояли, были кровно в этом заинтересованы.
Узнав о неизбежном революционном дворянском бунте загодя, Александр I имел бы хорошие шансы для попыток к сближению. И по большому счету все было к этому готово. Император не только мучился мыслями о будущей России, но и вместе со Сперанским работал над той ее моделью, которая позволила бы максимально раскрепостить не только крестьян, но и всякую человеческую инициативу, защитить активную часть общества тщательно разработанными законами. Александр вообще очень любил то, что называется сейчас перспективным планированием. Не хватало ему не идей, а именно социальной опоры в обществе, сил, способных к их осуществлению. И не обнаруженные вовремя, они сработали против.