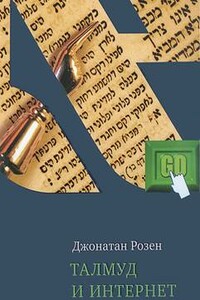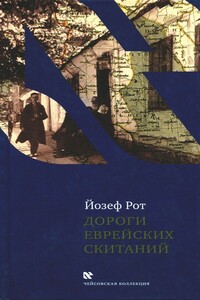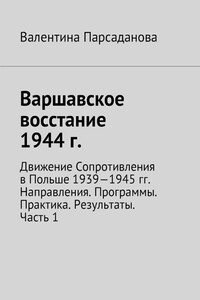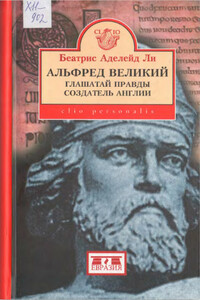Язык в революционное время | страница 70
15. Два финала одной революции
Сегодня ясно, что многоаспектная еврейская революция завершилась. Ушло неустроенное яркое поколение, осуществившее этот радикальный переход. Некоторые достижения модернизации были уничтожены, некоторые перешли в новый статус-кво.
Идеологии и партии, которые захватили еврейское общество в начале века, исчерпали свои споры и исчезли в диаспоре, а выжившие закружились в круговороте политических и прагматических партий, наперебой рвущихся к власти в Государстве Израиль. Попытки установления секулярной еврейской полисистемы без территориальной властной основы прекратились: идиш и иврит в качестве основных языков общества в диаспоре умерли, а с ними ушли их литературы и культуры. Их качество, сделавшее возможным существование в диаспоре автономной еврейской светской культуры, не перешло на английский или какой-либо другой язык.
Разноязыкое еврейское творчество действительно породило сильную литературу, отражающую этот переходный период. К сожалению, эта литература не очень доступна тем, кто не владеет этими языками и их культурными особенностями как родными. Даже ивритскую литературу того времени нелегко читать современным ивритоязычным читателям в Израиле. Причина кроется как раз в двойной природе силы этой литературы. Во-первых, она постоянно и глубоко ощущала ценность недавно обретенного языка вообще и «литературного языка» в частности. Это ощущение еще более усиливалось общим интересом к языку в модернистской литературе и философии культуры. Она играла своим языком в многоязычных и трансисторических проекциях, в которых она и родилась; и она играла литературным языком в телескопической перспективе между реализмом и модернизмом, в которой ей открывался европейский мир. Даже в хорошем переводе эту многослойность невозможно передать на другом языке, и еще менее реально перевести аллюзии и горизонты значений, порожденные ее бытием в разноплановом лингвистическом и культурном контексте. Во-вторых, тематически еврейская литература не представляет какой-то один физический или психологический мир, отличный от мира европейской словесности, потому что у ее персонажей таких миров было множество. Сила этой литературы как раз в изображении мира переходного, обогащенного трансисторическим и транстекстуальным сознанием героев и повествователей. Поэтому, чтобы полностью насладиться этой литературой, читателю необходимо проникнуться этим состоянием перехода, вместе с его трансисторическими проекциями.