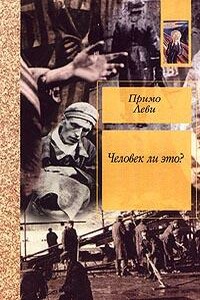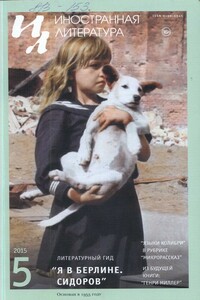Канувшие и спасенные | страница 83
И еще они говорят — нет, мы говорим (позволю себе употребить форму первого лица множественного числа, поскольку не принадлежу к категории молчащих), потому что нас об этом просят. Норберто Боббио как-то написал, что нацистские лагеря уничтожения «были не одним из, а самым чудовищным, возможно, неповторимым событием в человеческой истории». Испытывающие возмущение и сострадание слушатели и читатели (друзья, дети, посторонние) это тоже чувствуют; они понимают уникальность нашего опыта или по крайней мере пытаются понять. Поэтому настаивают, чтобы мы рассказывали, задают вопросы, подчас ставящие нас в тупик: ведь мы не историки, не философы, а всего лишь свидетели и на некоторые вопросы затрудняемся ответить, поскольку нигде не сказано, что человеческая история подчиняется строгим логическим правилам. Нигде не сказано, что каждый ее поворот является следствием какой-то одной причины (такие упрощения годятся только для школьных учебников), на самом деле причин, противоречивых, порой неопределимых, может быть много, а иногда их и вовсе может не быть. Ни один историк или философ, занимающийся теорией познания, еще не доказал, что история человечества подчиняется законам детерминизма.
Среди задаваемых вопросов есть вопрос самый распространенный, и еще не было случая, чтобы его не задали. По мере того как проходят годы, его задают все настойчивей и со все менее скрываемыми обвинительными интонациями. Это даже не один вопрос, а группа вопросов. Почему вы не бежали? Почему не боролись? Почему не пытались спастись до того, как вас схватили? Эти обязательные вопросы задают все чаще, а потому они заслуживают внимания.
Первое объяснение напрашивается само и уже одним этим внушает оптимизм. Есть страны, где не знают, что такое свобода, потому что потребность, которую человек в ней испытывает, следует за более неотложными потребностими, такими, как борьба с холодом, голодом, болезнями, паразитами, защита от нападений людей и хищных животных. Но в странах, где элементарные потребности уже удовлетворены, молодые воспринимают свободу как достояние, от которого они ни за что на свете не согласятся отказаться и которое не позволят ограничить; это неотъемлемое и неоспоримое право, такое же естественное, как здоровье и как воздух, которым мы дышим. Времена, когда это естественное право человека попиралось, и места, где оно попирается теперь, кажутся им далекими, чужими, странными. Поэтому заключение связано у них с побегом или сопротивлением. Положение заключенного кажется им несправедливым, неестественным; оно, как недуг, лечится либо побегом, либо сопротивлением. Впрочем, понимание побега как морального долга имеет глубокие корни. Согласно военным кодексам чести многих стран военнопленный обязан попытаться любым способом освободиться, чтобы снова занять свое место в строю, а Гаагская конвенция запрещает наказывать военнопленного за попытку к бегству. В массовом сознании побег смывает позор плена.