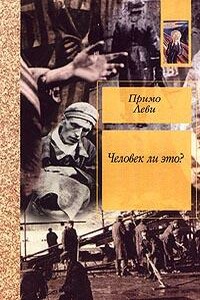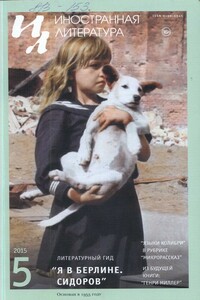Канувшие и спасенные | страница 78
Но прежде всего, и это самое главное, моя профессия помогла мне выработать привычку, к которой можно относиться по-разному, называя, в зависимости от точки зрения, человечной или бесчелочечной, — привычку никогда не оставаться равнодушным к тем, с кем меня сводит судьба. Это человеческие существа, но одновременно и «образцы», опечатанные экземпляры, ждущие, чтобы их определили, проанализировали, взвесили. Собрание «образцов», предоставляемое мне Освенцимом, было обширным, разнообразным и странным; состоящее из друзей, врагов и нейтральных людей, оно давало пищу моему любопытству, почему-то воспринимаемому некоторыми — и тогда и теперь — как взгляд отстраненного наблюдателя. Но эта «пища» действительно сохраняла живой какую-то часть меня и в дальнейшем дала мне материал для моих книг. Как я уже говорил, не знаю, был ли я тогда и там интеллектуалом или нет. Возможно, и был — в те моменты, когда слабело притеснение. А если стал им потом, то должен быть благодарен почерпнутому опыту. Я знаю, это «натуралистическое» отношение не обязательно должно идти от химии, но у меня оно, безусловно, от химии. Кроме того, сколь бы цинично это ни прозвучало, для меня, как и для Лидии Рольфи, и для всех, кому «повезло» выжить, лагерь стал университетом; он научил смотреть вокруг и разбираться в людях.
Именно в этом отношении мое видение мира полностью отличалось от видения мира Амери, моего товарища и антагониста. Читая его, замечаешь совсем другой интерес — интерес политического борца к вирусу, что заразил Европу и угрожал (и до сих пор еще угрожает) миру; интерес философа к Духу, место которого в Освенциме оставалось свободным; интерес униженного ученого, в силу исторических обстоятельств лишившегося родины и идентичности. Его взгляд всегда направлен вверх, его внимание редко привлекает лагерная толпа и ее характерный персонаж-«мусульманин», человек изнуренный до крайности, интеллект которого умер или вот-вот умрет.
Культура могла приносить пользу, но в крайних случаях и на короткое время; могла скрасить часы, закрепить мимолетное знакомство, поддержать в живом, активном состоянии мозг. Естественно, она была бессильна помочь сориентироваться или понять — в этом мой опыт иностранца совпадает с опытом немца Амери. Ни рассудок, ни искусство, ни поэзия не могли помочь осмыслить происходящее, понять, что это за место, куда они были депортированы. В «той» жизни, с ее постоянной тоской, пронизанной ужасом, удобнее было бы забыть их, как удобнее было бы, находясь «там», научиться забывать дом и семью; я имею в виду не окончательное забвение, на которое в конечном счете не способен никто, а возможность отправлять воспоминания в самый дальний угол памяти, где скапливаются ставшие помехой и в повседневной жизни уже не нужные воспоминания.