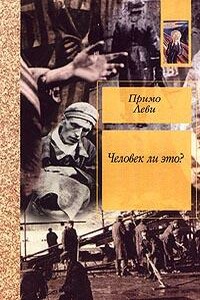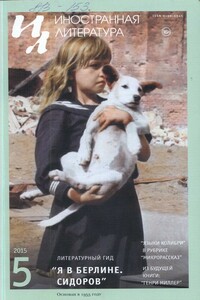Канувшие и спасенные | страница 74
Не только физический труд, но и сама жизнь в бараке была для образованного человека гораздо мучительнее. Это была жизнь по Гоббсу, нескончаемая война всех против всех (я хочу уточнить, что говорю об Освенциме 1944 года, столице концентрационного мира; в другое время в других лагерях могло быть лучше или намного хуже). Зуботычину от начальства можно было снести, это было, что называется, проявление непреодолимой силы; но снести удары от своих товарищей невозможно, потому что эти удары не ждешь, потому что это против правил. Невежественный человек на такой удар реагирует спокойнее. Между тем, именно ручной труд, даже самый тяжелый, мог помочь человеку вернуть попранное достоинство, помочь приспособиться, научить воспринимать работу как своего рода аскезу или, в зависимости от темперамента, как конрадовское осознание пределов своих возможностей.[54] Очень трудно было приспособиться к рутинной стороне барачной жизни: к идиотскому требованию безупречно заправлять постели (отнесенному мной к проявлениям бесполезной жестокости), к мытью дощатых полов грязными мокрыми тряпками, к тому, что одеваться и раздеваться надо было по команде — то для бесчисленных проверок на вшивость и на чесотку, то для утреннего умывания. И еще эти пародийные псевдовоенные смотры на Appelplatz с их «Сомкнуть ряды!», «Равнение напра-во!» или вдруг — «Шапки долой!» перед каким-нибудь эсэсовским чином со свинячим брюхом. Все это воспринималось как лишение, как гибельное падение в безутешное детство, в котором нет наставников и любви.
Амери-Майер утверждает, что страдал, слыша, как ка — из лечат его родной немецкий (о проблемах общения я писал в четвертой главе). Он страдал иначе, чем мы, депортированные, оказавшиеся вдруг в положении глухонемых; его страдания были, если можно так сказать, скорее нравственными, а не физическими; он страдал как раз из-за того, что знал немецкий и, будучи филологом, обожал его; страдал, как страдал бы скульптор, если бы на его глазах уродовали или разбивали его статую. Страдания ученого в данном случае отличались от страданий малообразованного иностранца: для первого лагерный немецкий был варварским жаргоном, который он понимал, но говорить на нем у него язык не поворачивался; последнему немецкий, на котором говорили в лагере, был незнаком, а незнание официального языка было опасно для жизни. Один был депортированный, другой — чужой среди своих.
Теперь о побоях, совершаемых своими же, заключенными. Не без гордости и удовольствия Амери в другой главе рассказывает о ключевом для своей новой морали случае «ответного удара»,