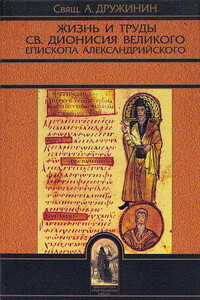О догмате Искупления | страница 5
Это “вступление непосредственно в нашу природу природы Христовой” автор называет благодатью, которая, по его словам, “невидимо вливается в нас в различных настроениях и случаях нашей жизни, а с особенной силой в святых таинствах” [XI].
Такова в общих чертах теория митр. Антония, созданная им для объяснения сущности догмата Искупления. Перейдем к критическому рассмотрению её.
Нетрудно заметить, что сущность этой теории митр. Антония сводится к своеобразному учению об едином естестве человеческом, из которого он и старается развить все своё учение о спасении. Но насколько основательно это его учение о едином естестве человеческом? Внимательное изучение святоотеческой литературы показывает, что термин “естество” в приложении к человеку у Святых отцов имеет далеко не одинаковое значение. Поэтому, чтобы ориентироваться в настоящем вопросе, нам необходимо познакомиться со святоотеческим учением по данному вопросу.
Прекрасный свод святоотеческого учения о естестве человеческом мы находим в творениях св. Иоанна Дамаскина: “Диалектика или философские главы” и “Точное изложение Православной Веры.”
В общих чертах оно сводится к следующему: “Каждый в отдельности человек, – говорит св. Иоанн Дамаскин, – состоя из двух естеств – из души и тела и, имея их в себе в неизменном виде, справедливо может называться [состоящим из] двух естеств, ибо и после соединения [души и тела], сохраняет естественное свойство каждого из них. Ибо тело [и после соединения с душой] не бессмертно, но тленно; также и душа [и после соединения с телом] не смертна, но бессмертна… Следовательно, человек – по норме своего определения – состоит не из одного естества.
“Если же и говорится иногда, что человек из одного естества, то в таком случае название естества берётся вместо названия вида. Например, когда говорим: человек не отличается от человека никакой разностью естества; но так как все люди имеют совершенно одинаковый состав, будучи сложены из души и тела, так что каждый обладает двумя естествами, то все подводятся под одно определение. И это не странно, так как священный Афанасий [Александрийский] естество даже всех тварей, как сотворенных, назвал единым. В слове своём против хулящих Духа Святаго, он говорит: “А что Дух Святый выше твари, отличен от единства тварного бытия, принадлежит же Божественной природе, можно понять из следующего. Все, что усматривается совместно и во многих вещах, и не находится в одной из них в меньшей, а в другой в большей степени, называется сущностью”