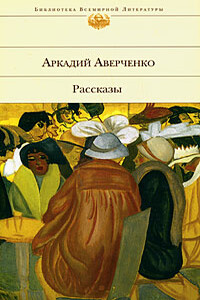В запретной зоне | страница 2
Дочек его — кроме одной, младшей — давно нет в живых, а внуки знали его уже только по чужим рассказам — и потому он остался в памяти потомков кое-как набросанной картинкой с контурами весьма нечеткими и приблизительными.
Рассказывали им, например, что какая бы ни была в наших местах власть, представители ее, посланцы очередных хозяев округи, столовались у Якова, и он выпивал с ними домашнего вина и радостно предлагал всем ночлег на чистых простынях.
И посланцы власти говорили: «Вот так хозяин!» — не задумываясь даже о том, что отличает Якова от хозяев всех других усадеб, от бывших хозяев, но и не сомневаясь, что он отличается от них от всех. Что-то было в нем такое, от чего усадьба его неправдоподобно долго, — месяцами — оставалась не разграбленной, и не сожженной, что-то такое умел он, чего не умели другие. Вваливается во двор толпа солдат — и тут, глядишь, парень бежит к нему: «Батько, я зарежу курицу?»
У кого бы еще стали спрашивать?
Одному Якову доступно было искусство управления людьми, и домочадцами, и теми, кого видишь в первый раз. Так выходило по рассказам. Хотя он и не понял бы, что это значит — «искусство управления людьми». Никто в округе таких слов не знал, и некому было в назидание потомкам описать его талант, и сам он тоже не оставил записок. Да ему и в голову не приходило, что надо что-то писать такое о себе — праправнукам своим, например. Он знал, что он хозяин над усадьбой, и над самим собой, и над домашними, и над прислугой — иначе просто быть не могло.
Он родился на свет, чтоб быть хозяином, и жизнь подкидывала ему все более и более сложные положения, так, чтобы он мог бесконечно совершенствоваться на своем поприще. Жена его умерла, девчонки были еще маленькие, было их четыре или пять, а может, еще больше, и кто-то из них умер во младенчестве — в те времена это было обычным делом. К тем, что остались, он приглашал учителей, и чем-то там они все занимались, и преуспевали не только в игре на пианино, но и в шитье одежды, и в вышивании узоров, а может, они и коров учились доить — Яков говорил, что не знает, чего его девочкам придется хлебнуть. Он часто так говорил, им в назидание, и получилось, как будто наколдовал себе во вред — он потом думал, что похоже, будто бы наколдовал. В общем, его дочь Наташка влюбилась в местечкового сапожника и стала посмешищем для всех, и для сапожника того, для молодого парня, в том числе. Сама себя забыла. Уж до того ее тянуло к этому парню, к Николаю, что спасу никакого не было. Как он скручивал папироску, длинными исцарапанными пальцами отрывал угол бумаги, поглядывая насмешливо — знаю, мол, что с тобой происходит, не утаишь! А у нее все так и опускалось внутри, лицо застывало — не поведешь глазами, не усмехнешься.