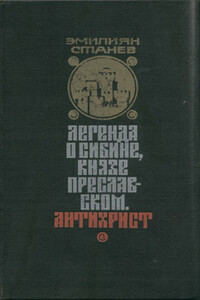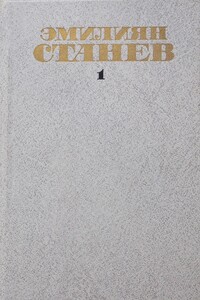Похититель персиков | страница 31
«Как я малодушна, — упрекнула она себя, засыпая. — А тяжело мне потому, что в глубине души я уже порываю с прошлым…»
9
Август подходил к концу, но жаркие дни тянулись по-прежнему, однообразно сменяя один другой. Только по утрам теперь не выпадало росы и бывало зябко, как будто к земле подкрадывался смертный холод. Над виноградником летали иволги, их отливающие солнцем перья ярко сверкали в прозрачном свете утра. В доме все сильнее тянуло холодом от каменных стен, а запах извести и карболки стал еще острее. На винограде облетели листья, и спелые гроздья синели среди пожелтевших лоз.
Эпидемия в городе все разгоралась, и настроение у полковника было прескверное. Он приезжал злой, заглядывал в газеты и тут же с отвращением бросал их. Правительство Малинова,[7] которое, по его расчетам, должно было исправить положение, ничем не отличалось от правительства Радославова.[8] Офицеры, прибывшие с македонского фронта, рассказывали о безнадежном состоянии оборванной, голодной армии, о том, что неприятель после майского наступления занял выгодные позиции под Яребичной и готовится нанести оттуда решающий удар. В эти критические дни немецкое командование продолжало отводить с фронта последние батареи тяжелой артиллерии, а также оставшиеся немецкие части, без стеснения нарушая военный договор, и, пользуясь кондоминиумом,[9] грабило Добруджу. Немецкие и австрийские эшелоны с продовольствием беспрепятственно пересекали западную границу страны, в то время как народ Болгарии и ее армия голодали. В тылу коррупция и спекуляция приняли невиданные размеры, от чудовищной дороговизны страдали даже офицеры, месячного жалованья которых теперь хватало только на десять катушек ниток или на бидон керосина. В то время как правительственные газеты пестрели ура-патриотическими статьями и призывами, министры делали успокоительные заявления, выражая надежду на скорый мир, а ставка втайне готовилась бросить в наступление истощенных, разутых, раздетых солдат, которые должны были штурмовать занятые неприятелем высоты.
Полковник не хотел допускать мысли о поражении и старался подавить поднимавшиеся в душе отчаяние и злобу. От этого вечного единоборства с самим собой он становился все суровее и ожесточенней. Его ненависть к сербам достигла апогея, он не мог хладнокровно смотреть на пленных, потому что читал на их истощенных лицах злорадство по поводу близящегося краха и надежду на избавление. Дисциплина в лагере упала, режим не соблюдался, конвоиры стали проявлять нерадивость и мягкосердечие.