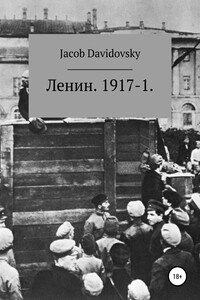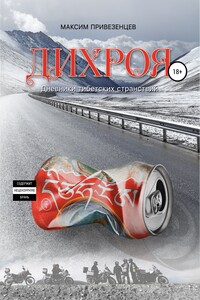Модэ | страница 39
— Режь грудину, — сказал шаньюй.
Модэ повиновался. Барашек молчал, когда нож делал свое дело.
— Запусти руку ему под ребра, — продолжал царь. — Отодвинь внутренности. Так… дальше!
Сухой и горький комок застрял у Модэ в горле, но он повиновался каждому слову отца. Князья-старики смотрели пристально, но их взгляды не тревожили Модэ. Только черные клешни отца, самая близость их заставляла мальчика просовывать руку дальше — к позвоночнику.
— Чувствуешь? — спросил отец.
Да. Модэ чувствовал: под пальцами билась горячая толстая жила, та, что гонит кровь прямо в сердце. Барашек чуть повернул голову, уставив на мальчика большой розовый глаз свой.
— Рви ее, — кажется, это даже не отец сказал, кажется, Модэ приказал себе потянуть невидимую жилу…
— Мой сын принес первую жертву! — взревел шаньюй, поднимая тяжелые лапы, уже перемазанные кровью, не глядя на дрожащего ребенка, который еще не успел даже вытащить руку, обтереть ее о траву, обчистить, очистить…
Модэ лежал на спине, глядя на ясные звезды, и царапал ногтями лицо свое. Он хотел вскочить, метнуться к шатру, где был связанный пленник, и убить его тут же, без всякого объяснения — единственно за руки его, так похожие на отцовские руки…
Но он сдержался. Снова заговорило в нем какое-то чутье, какой то зверь поднял уши за его спиной, и Модэ понял — юэчжи убивать нельзя. Нужен он ему, Модэ, для какой-то надобности, как нужен старый воробей Чию и двенадцать резаков… Не двенадцать уже, а одиннадцать…
«Нет Курганника» — одними губами прошептал Модэ. Только теперь осознал он смерть лучшего своего батыра и только теперь пожалел о ней.
«Нет Курганника… пусть! Пусть юэчжи будет двенадцатым, вместо него! Он убил, он и станет двенадцатым».
Эта мысль почему-то успокоила и усыпила царевича хунну. Он закрыл уставшие веки и увидел на обратной их стороне приятный багровый сон. От мальчика с круглым лицом и круглыми глазами не осталось и следа. Был теперь только Модэ, — всадник с десятью тысячами луков, гроза юэчжи и смерть своего отца.
9
***
Молодой хунну с черными косицами приходил и уходил. Михра успел изучить его лицо — смуглое, рыхлое, не такое широкое, как у других хунну, — оттого, наверное, что щеки у него когда-то были усечены и отдавали той же розовой мякотью, что и рана на щеке Михры. Черные косицы его, всегда смазанные салом, блестели на солнце, как тонкие змеиные хвосты.
Он приходил в день дважды — утром и вечером. Всегда были сизые сумерки и воздух был холодным и горклым. Впрочем, все это пленнику было безразлично. Он готовился в душе своей к событию большому, последнему, важному. Он не боялся. Чего бояться, если умирают все, даже боги на заре времен сошли в курганы, чтобы освободить на земле место для новой, другой жизни? И Михра умер бы, — от жажды и голода, от кулаков немого страшного хунну, — но в одну из ночей случилось с ним новое видение — на сей раз не было ни мальчишки, ни сизой бычьей шкуры, а было только орлиное крыло да еще овечье око. И крыло и око неясно повисли в воздухе среди цветных пятен и багровых разводов, но сквозь видение явственно слышался голос Раманы-Пая: