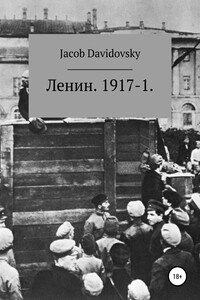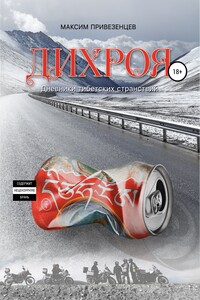Модэ | страница 38
— А нет ли у тебя яда и для меня? — рот Модэ продолжал улыбаться, но глаза превратились в две черные щелки.
Чию пропустил эти слова мимо ушей:
— Как ты и хотел, мы сперва расправимся с юэчжи, молодой господин. Нельзя позволить им обрести сильного правителя. Харга позаботится об этом — зелья, что я ему дал, действуют наверняка. Но не забывай — скоро твоя рука должна дотянуться и до Поднебесной…
Лицо Модэ дрогнуло. Уголок рта болезненно скривился. Темник не смотрел больше на игрища Караша, он уставился в небо, чуть наклонив голову вбок.
— Зачем мне твоя Поднебесная? — произнес он. — Я что, привяжу ее к своему седлу?
И он посмотрел на Михру, чьи руки были связанны по-прежнему, а глаза смотрели на Караша бессмысленно и дико. Жилы на шее юэчжи надулись и сделались красными, на лбу выступил пот. Беловолосый великан тянулся к Карашу, бессмысленно шевеля разбухшими и почерневшими пальцами, открывая битый, перекошенный рот, словно зубами хотел смолоть весь этот позор.
Что-то изменилось в тот день. Празднество больше не привлекало Модэ. Скоро он прогнал слуг и забрался в свой шатер, не пустив к себе даже наложниц.
Он лежал в темной пустоте шатра, вглядываясь в узкую дыру в потолке. Царевич думал о пленнике-юэчжи и скрежетал зубами от бессильной ярости. Сегодня, взглянув на руки этого беловолосого, он вспомнил руки отца — полные и сильные лапы.
Вспомнилась ему далекая холодная и голодная зима, когда он, Модэ лежал на грязном войлоке, сжав обиженно губы, стараясь не заплакать, чтобы не услышал отец. Той зимой мерло много детей. Вот и маленькая сестренка которую Модэ любил я нянчил бывало на руках, в один из дней вдруг затихла, перестала плакать и просить есть. Мать выла, била себя в иссохшую грудь, отец бил ее, не кричал, а отрывисто рыкал. Сестренка долго пролежала — она уже почернела, когда отец, наконец, забрал ее у матери и унес куда-то прочь. Курень в ту зиму стоял на речном берегу, холодный ветер задувал в шатер белую холодную пыль. Модэ метался на своей лежанке, в жаре, в бреду, и видел только тень отца на стенке, раздутую, заострившуюся, похожую на черного грифа.
Вспомнился и праздник весны, когда отец впервые приказал Модэ убить барашка. То была жертва древнему богу Неба, который хлестал степь своими молниями. Жертвы ему приносили в начале года, когда космы его нависали над равниной, а единственное око-солнце исчезло за густой пеленой.
Отец подвел Модэ к каменному алтарю, на котором лежал связанный барашек, и велел разрезать тому грудину. Модэ, мальчишка с глупым круглым лицом и глупыми круглыми глазами стоял, потупившись перед алтарем. Нож тускло блестел, протянутый в черной лапе отца, острый как лунный серп, древний как камни алтаря, как сам священный курган. Барашек молчал, — чуть прикрыв глаз он смотрел на Модэ, и, кажется, хотел ткнуться носом в его ладонь. Он был совсем ягненок и не отвык еще ластиться ко всему теплому и большому.